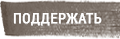Герои
последних 30
Игорь Бунин
читать интервью
скрыть интервью
президент «Центра политических технологий», 70 лет, Москва
Термин «политические технологии» на русском языке был придуман в «Центре политических технологий». Это было в августе 1993 года, когда нам дали денег под один проект. Предприниматель, который тогда нас пригласил, уже давно разорился, но тогда он был еще полон больших надежд. Когда я с ним разговаривал, он предложил сделать такое, чего не было ни у кого. Мы с Марком Урновым, Алексеем Салминым и Ростиславом Капелюшниковым собрались на обсуждение и придумали термин «политические технологии». Многие уже работали как политтехнологи, но слова еще не было, называли себя политическими консультантами. Тогда мы решили переименоваться в «Центр политических технологий» (ЦПТ), ведь еще в декабре 1991 года мы создали первую нашу организацию, которая называлась «Экспертиза». Поэтому празднуем основание нашей организации в декабре.
Никто из нас политическими технологиями непосредственно не занимался, мы были прежде всего политологами, а кто-то экономистом. В общем, мы были хорошими политологами. К августу 1993 года у нас были большие достижения. Когда мы организовали «Экспертизу», у меня была цель выпустить книгу про российских бизнесменов «40 историй успеха».
Но Алексей Салмин внес в деятельность «Экспертизы» много политологического. И мы как политологи стали решать задачи по спасению мира. В тот момент человек, который работал в качестве политолога на Ельцина, доктор философских наук Анатолий Ракитов, мало что понимал в этом деле, но руководил Аналитическим центром при президенте. При нем был Саша Лившиц, который и помогал Ракитову. Мы тогда с ним познакомились, он несколько раз к нам обращался.
И в один момент мы «спасли» Россию. Когда стали стрелять по Белому дому, то в Кремле не знали, что делать дальше. Бунтовщиков разгромили, а как проводить выборы в Думу, было не понятно. Не было конституции. Мы собрались, и я предложил решение, которое уже было использовано Шарлем де Голлем: сразу после войны он провел выборы и референдум по конституции. Нужно было выборы и референдум проводить одновременно, что и произошло. Марк Урнов рассказал об этом Лившицу, после чего Ракитова выгнали, а начальником Аналитического центра стал сам Лившиц. И в дальнейшем мы много работали над разными проектами с Ельциным.
Да, это было время, когда никто еще не разбирался в политике. Опыта ни у кого не было. Все только учились. Поэтому политолог мог принести решение, которое становилось судьбоносным для всей страны.
Тогда реальные политтехнологи уже появились. Первая политтехнологическая задача, которую мы решали, встала перед нами, на самом деле, только в 1995 году. В том году образовался проект «Наш дом — Россия». Его придумали мы с Борисом Макаренко, моим заместителем. Мы сказали, что сейчас у Ельцина кризис власти, и единственная возможность — это дать ресурсы Черномырдину, на которого можно будет опереться. У партии Гайдара тогда уже были слабенькие рейтинги, поэтому требовалось организовать другую партию.
Этот проект продвигал ЦПТ, а в Администрации его поддерживали ушедший туда работать Марк Урнов и Георгий Сатаров. Но Ельцину эта идея не очень нравилась: он боялся конкурента. У Черномырдина есть «Газпром», будет партия — страшновато. Тогда Вячеслав Никонов предложил создать вторую партию во главе со спикером Госдумы РФ Иваном Рыбкиным и стал ее идеологом. Но выяснилось, что две «партии власти» у нас не получаются. На выборах они получили немного. «Наш дом — Россия» - 10 %, а Блок Рыбкина - 1,11%. Это была наша первая политтехнологическая работа.
А потом в 1995 году была непонятная ситуация. У Ельцина было 4%, и выиграть выборы он не мог ни фактически, ни теоретически. И это уже была наша вторая политтехнологическая работа. Нас попросили написать, как Ельцин может победить. Я специалист по Франции, поэтому объяснил, как там бывает. В первом туре всегда голосуют за любимого кандидата, а во втором — против большего из двух зол. Поэтому, если противником будет Зюганов, то его Ельцин сможет победить. Это была простая логика, которую все сейчас понимают, но тогда она казалась открытием. Марк Урнов по своей административной линии написал что-то похожее, подсчитал, что можно выиграть. Позже к кампании подключился Юрий Рубинский, который работал в российском посольстве во Франции и подтвердил, что там выборы в два тура выигрываются именно так.
Этот проект стал осуществлять Анатолий Чубайс. Нашей задачей была разработка только концептуальных вещей. А деньги и первый контракт от власти мы получили через бизнесмена Александра Смоленского. Он составлял, всего - навсего, 75 тысяч долларов.
Чубайс нас хвалил, но потом стал жаловаться, что рейтинг у Ельцина растет медленно. Тогда он предложил выдвинуть на пост премьера Явлинского вместо Черномырдина. Я ему ответил, что во время выборов нельзя менять парадигму, которая уже принесла прирост голосов, иначе мы этот рост потеряем. Ельцин прибавлял за неделю 1-2%. Об этом разговоре я рассказал Черномырдину, мы с Чубайсом рассорились. Когда после выборов Чубайс стал главой Администрации, я был отстранен от телевидения.
Выборы кончились, кончились деньги. А так как мы рассорились с Чубайсом, надо было думать, как нам жить дальше. И в этот момент к нам пришли и спросили: «А не поработаете ли вы как простые политтехнологи?» И мы отправились на север. К тому моменту я уже нашел в команду человека, который вёл подобную полевую кампанию, и мы стали работать. Надо сказать, что ту первую кампанию мы проиграли. Это единственная кампания, которую мы проиграли. Но мы получили опыт, и теперь знали, как это делать.
Я лично в той кампании не участвовал, а ребята, вернувшись, чувствовали себя прекрасно. Их там поили, кормили. Они придумывали кампанию с нуля. Впрочем, тогда первым на рынке был «Никколо М». Мы же до этого времени были прежде всего политологами, но такими, которые работали на национальном уровне. Опыт такой работы сильно помог для работы на региональном уровне.
Мы нашли простые алгоритмы. Нужно найти коридор, по которому в реальности может двигаться кандидат. А дальше думать уже о возможности расширения этого коридора. Наша группа приезжала в регион вместе с политическими географами. Команда изучала ситуацию, искала слабые места у нас и у противников. И после этого создавалась стратегия. Думаю, что вплоть до 2005 года на губернаторских выборах у нас были лучшие принципы разработки стратегии.
В поле политтехнологий у нас имелись конкуренты. К сожалению, я взял на работу человека, который руководил политтехнологическим направлением и постоянно конфликтовал с начальником штаба, такой психологический момент. Он был решительный, смелый. Мне в тот момент казалось, что он нужен в поле. В итоге его пришлось сменить. Я считаю, что тогда нашей сильной стороной было, прежде всего, предварительное изучение и формирование кампании. Позже к нам пришли практические политтехнологи, и мы стали выигрывать выборы.
Надо понимать, что фирма, которая тогда занималась только политтехнологиями, выжить не могла. После 2005 года, когда все основные решения стали приниматься на административном уровне, политтехнологи оказались никому не нужны. Мы в этот период занимались разными смежными направлениями. Например, корпоративными исследованиями, в частности, корпоративным исследованием для ЮКОСа. Всё, что было сделано ЮКОСом на корпоративном уровне, было разработано нашими сотрудниками. Сейчас мы продолжаем заниматься подобными исследованиями для других компаний.
Естественно, мне больше нравилось работать до отмены губернаторских выборов в 2004 году. Когда есть много центров принятия решений (особенно в олигархической системе), то решения принимаются не на высшем уровне, а разными конкурирующими друг с другом группами. И они ищут, к кому обратиться за помощью для выхода из трудной ситуации. Группы постоянно враждуют между собой, но благодаря этому не возникает авторитарная система. А вот когда формируется вертикаль, то необходимо примкнуть к какому-нибудь её уровню, иначе ты исчезаешь.
Два раза мне случайно удалось повлиять на реальную политику: в 1993 году и 1996 году. Это было реальное влияние. Больше я никогда не мог повлиять на сильных мира сего. Это невозможно. Как я отношусь к этим решениям? Я на самом деле доволен принятой в 1993 году конституцией. Она до сих пор защищает страну от окончательного сползания в авторитаризм. А что касается Ельцина. Не знаю. В любом случае наша стратегия — ставка на биполяризацию, антикоммунистическую риторику и повышение явки — была успешной. Выбор между Ельциным и Зюгановым был для меня очевиден. Многие говорят о том, что произошла бы смена власти, и страна привыкла бы к тому, что власть меняется. Но нужно понимать, что КПРФ — это не социал-демократические партии из Восточной Европы. У нас бы не произошло тех перемен, которые случились там. После победы Зюганова произошёл бы откат.
Другое дело, что 1996 год имел свои последствия. Возникла олигархическая система. Между олигархами начались конфликты. Тут же понадобилось некое палочное решение в виде силовика в качестве кандидата в президенты. Так нашли Путина. В какой-то момент он подыграл Ельцину, дал ему гарантии и пришёл к власти. Но после разгрома олигархов тренд на построение авторитаризма был неизбежен.
В начале 1990-х годов политтехнологи были необходимы. Тогда вообще никто не понимал, что такое западная демократия, конкурентные выборы. У меня была кандидатская по Франции, докторская по Франции, я оказался человеком, который хоть что-то знал в тот момент. Те, кто тогда со мной работал — Урнов, Макаренко, Салмин — знали Запад. Люди, которые разбирались в политических процессах, были абсолютно необходимы. Нужно было объяснять, что такое плебисцит, что такое референдум, как проводить мажоритарную кампанию в два тура.
Сейчас политические советники нужны бюрократии значительно меньше, потому что бюрократы сами обладают инсайдерской информацией и стали более компетентны. Но нужно понимать, что бюрократия закостеневает, ей сложно сохранять динамику и системно понимать ситуацию. А человеку со стороны разобраться в ситуации проще, и этот взгляд со стороны — не меньшее преимущество, чем инсайдерская информация, которой обладает чиновник.
Соревновательность в российской политике растет. В 2014 году её было больше, чем в 2013-ом, а в 2015-ом больше, чем в предыдущем году. Но это микроскопическая разница. В 2013 году в выборах могли побеждать только члены «Единой России», в 2015-ом на это могут претендовать и кандидаты от других фракций, которые есть в Думе. Вот, например, в Иркутской области победил коммунист. Конкуренции стало больше, и политтехнологам есть где развернуться. Правда, в меньшей степени, чем в начале 2000-х годов.
последних 30
Вадим Малкин
читать интервью
скрыть интервью
бизнес-консультант, 42 года, Лондон
Политические технологии — это инструмент воздействия на политические процессы таким образом, чтобы политические игроки достигали нужных целей.
Политическим и бизнес-консалтингом я занялся в конце 1990-х годов. Я искал себе сферу применения после того, как закончил ВГИК. Тогда в кинематографе много сделать было нельзя, его тогда фактически не было. Начиная с 1995 – 1996 годов я стал заниматься различными социологическими проектами, затем стал работать в проектах Всемирного банка, связанных с общественным просвещением. Это было в основном правовое и бизнес просвещение. Я работал в компании, которая отвечала за их реализацию в России.
В начале 2000-х годов проработал два года в ФЭПе у Глеба Павловского, возглавляя его медиа-холдинг: «Страна.ру», «Вести.ру». После этого я открыл собственную компанию «Агентство стратегических коммуникаций», которая вела в том числе избирательную кампанию «Яблока».
В 2003 году наша избирательная кампания и моя компания были разгромлены из-за того, что «Яблоко» поддерживал «ЮКОС». После этого я уехал в Лондон и стал заниматься бизнесом. Получил международную степень MBA, занялся финансами.
Я не могу сказать, что совсем не вспоминаю сейчас политические технологии. Они мне дали определенный подход для видения остальных дел. Это мне помогает в стратегическом планировании и в ситуационном анализе.
Было несколько ключевых различий работы политтехнологов в 1990-е и 2000-е годы. В первое постсоветское десятилетие политтехнологии — больше искусство, чем наука. Были люди, которые выполняли функции политических технологов, не учась по учебникам, имея разный бэкграунд. Они брали заказы и изобретали политические технологии с нуля. В 2000-е годы политические технологии стали наукой, появились факультеты в вузах. В это время они стали организованным и технологизированным отлаженным процессом.
В 1990-е годы степень непредсказуемости результата была несравнимо выше. Я бы сказал, что роль полититтехнологических инструментов была выше, чем даже в ранние 2000-е годы, когда стала отстраиваться «вертикаль власти». В нулевые то, что в Кремле называлось «электоральным планированием», то есть планированием политических конфигураций в регионах, стало самым важнейшим явлением российской политики. Поэтому целью политических технологий становился уже не электорат, а разные части элиты.
И, конечно же, сильно изменились деньги. В 1990-е годы суммы, которые фигурировали в избирательных кампаниях, казались бешенными. Например, мой приятель, который пошёл работать на избирательную кампанию 1996 года, стал получать полторы тысячи долларов — до этого он в месяц имел не больше 50 долларов. Но это не сравнимо по масштабам с денежными вливаниями 2000-х годов.
Вынужденная малобюджетность 1990-х годов диктовала более креативный подход и «магическое» выжимание соков из имеющихся ресурсов. Потом это стало менее распространено, и избирательные технологии стали связаны с обычной рекламой, со стандартными полевыми агитационными мероприятиями. В 1990-е годы пытались придумать политические разводки, которые моментально делали кандидата из ниоткуда узнаваемым. Я не говорю, что потом креатив закончился, но от него стало меньше зависеть.
Конечно, по 1990-м годам у меня больше ностальгии, потому что это была молодость и открытие нового во всём. Но и потом было, скажем так, неплохо.
Когда консультируешь партию или любую организацию, то это всегда связано с возможностями выстраивания отношений с разными людьми, вопрос игры с разными участниками. Многие ошибочно думают, что если они договорились со спонсорами и лидерами партии, то они сделали главное. Нет, нужно работать со всеми на разных уровнях. Многие коллеги на этом погорели, их торпедировали партийным аппаратом и средними менеджерами партий. Эти люди обычно и лишают политтехнологов, работающих с партиями, заказов. Поэтому политтехнолог должен быть полезным каждому важному человеку в партии. Индивидуальные консультации — это другая история. Это психология, тут возникает связь как между врачом и пациентом, потому что важно полное доверие.
Комментаторы, которые считают ФЭП ответственным за всё ныне происходящее в стране, безумно льстят его бывшим сотрудникам. Безусловно мы принимали участие в создании многих аналитических и медийных инструментов, которыми пользовалась Администрация президента. Когда я вижу сегодня многие проекты Кремля, то понимаю, что те инструменты не были не самыми эффективными. Я не отрицаю определенной ответственности. Но это ответственность создателя ножа за то, что кто-то ножом отрезал палец. После работы в ФЭП я не общался с его сотрудниками и не видел, чтобы они лично осознавали какие-то последствия своих действий. Большая часть происходящих ныне тенденций — это результат работы Володина.
Я считаю, что президентская кампания 1996 года все еще не исследована по-настоящему. Нужно изучить отдельно и кампанию самого Ельцина, и кампанию связки Ельцин-Лебедь. С научной точки зрения также хорошо бы изучить первую кампанию «Единства» и Путина в 1999-2000 годы. Сейчас о них ходит много легенд и анекдотов, а вот серьёзного научного анализа не проводилось.
В мировом опыте считаю крайне интересной вторую кампанию Тэтчер. Меня вообще интересуют «тёмные лошадки», когда ты берешь кандидата на выход, которого считают не избираемым. А ты поворачиваешь кампанию таким образом, что он выигрывает или достигает результата, который никто не прогнозирует. Такие кампании самые интересные. И вот у Тэтчер была такая кампания. Во многом сыграли свою роль Фолькленды. Но как там была проведена работа с электоратом! Да и последняя победа консерваторов в Великобритании во многом напоминает ту кампанию. В частности, Евгений Минченко сделал очень качественное ее исследование.
Как в любой профессиональной области сложно разделить Запад и Россию. Живя в России, все склонны думать, что она уникальна. Это не так. Кампании в странах, где демократия только появляется или существуют некие полуавторитарные режимы, очень похожи между собой. Есть же целые гастролирующие международные компании, которые делают по одним и тем же лекалам успешные кампании и в Латинской Америке, и в Африке, и на постсоветском пространстве. Поэтому всегда есть, чему поучиться.
Но не уверен, что опыт, полученный в России, может быть эффективен в избирательных кампаниях в той же Великобритании. Американские технологии тоже там не всегда применимы. Меня поразило, что в Великобритании не принято делать телевизионную политическую рекламу. Но вот фактор непосредственного общения кандидата с избирателем в Великобритании играет очень высокую роль. Там же очень маленькие избирательные округа, поэтому кандидат может пообщаться фактически с каждым избирателем.
Иногда мне как бывшему политтехнологу и стороннему наблюдателю хотелось дать советы некоторым кандидатам. Помню, как размазывали лидера лейбористов Милибэнда по той же технологии, что и Зюганова в 1996 году — «Не дай, Бог!» И вот эта кампания консерваторов и Кэмерона была очень технологичной и построенной на том же лозунге «Голосуй или проиграешь». Если ты не проголосуешь за консерваторов, то придут безумные социалисты, введут налоги и экономика встанет. Милибэнд очень неудачно этой кампании оппонировал. У него не было альтернативной повестки, на которую пришлось бы реагировать уже консерваторам. Если бы я работал на него, то придумал бы как напасть уже на Кэмерона, как демонизировать консерваторов. Нужно было использовать страхи электората, которые в отношении консерваторов в изобилии имеются у среднестатистического британца. Но Милибэнд действовал как тот же Зюганов, он обращался только к своему ядерному электорату, который за него и так проголосует.
Маловероятно, что я вернусь к ведению избирательных кампаний. И река изменилась, и я изменился. Но какой-то содержательный консалтинг на стыке бизнеса и политики мне интересен.
В 1985 году я ходил в школу в 5 класс и думал, в какой кружок мне записаться в кинематографический или астрономический.
последних 30
Григорий Казанков
читать интервью
скрыть интервью
политтехнолог, доцент химического факультета МГУ, 51 год, Москва
Политические технологии — это самые разнообразные способы влияния на формирование общественного мнения и для достижения различных общественно-политических задач.
Я не думаю, что политические технологии когда-то «приходили» в Россию. Они были всегда, во всяком случае последние лет сто, поскольку в этот период была создана колоссальная машина по влиянию на общественное мнение. Хотя это были безусловно специфические политтехнологические задачи. В современном понимании политические технологии стали развиваться в России вместе с появлением конкурентной политики, примерно с 1988 года. Но опять же они не особенно сюда пришли: политтехнологии специально не экспортировались. Конечно, какой-то мировой опыт был затем воспринят, но это не было принципиальным моментом. В России политические технологии развивались весьма специфическим образом.
Кстати, насколько я знаю само понятие «политические технологии» в мире не очень-то и существует. Его придумали мы сами, потому что не хотели называться политологами, поскольку мы занимаемся несколько иными вещами. Мы не хотели называться и имиджмейкерами — это сужает наш род деятельности до организации предвыборных кампаний. А все, кто этими вещами стал заниматься в конце 1980-х годов, хорошо понимали, что дело не только в выборах — вопрос гораздо более серьезный. Так в России и появился термин «политические технологии».
Этот термин я придумал с моим товарищем Александром Урмановым в 1990 году. Я не убежден, что мы одни были такие, тогда он носился в воздухе. Но если нет других претендентов, то тогда мы будем авторами.
Мне всю жизнь было интересно, как в остальном мире устроены выборы, у нас такого не было. Вот вы не поверите, но с детства хотел этим заниматься. Но поскольку этого не было, то я получил совсем другое образование. Я химик, и прекрасно себя чувствовал. В 1988 – 1989 годах я с командой единомышленников провел замечательную кампанию, хотя мы тогда ничего не знали и не умели. У нас был потрясающий кандидат — Алексей Михайлович Емельянов, на тот момент заведующий кафедрой сельского хозяйства экономического факультета МГУ. Затем он стал президентом Академии госслужбы при президенте РФ. Он прошел в Верховный Совет СССР.
Почему мы достигли тогда успеха? Во многом из-за того, что у нас был очень хороший кандидат и очень хороший оппонент — знаменитый советский юрист, автор передачи «Человек и закон». Оба были демократически настроены. А тогда было просто, если ты кандидат в Москве и демократически настроен, то побеждаешь. Была сильнейшая борьба. В какой-то момент стало ясно, что нужно всегда говорить правду, всё равно выплывет. Наш кандидат и без того был человеком искренним и открытым, блестяще проводил встречи с избирателями. И в отличие от своего оппонента всегда говорил правду — тот часто лукавил.
Я не думаю, что политтехнологи делятся по каким-то специализациям. Люди, которые могут называть себя политтехнологами, как раз понимают какой им нужен инструментарий под конкретную цель. И они должны уметь подобрать уже команду под её выполнение. Один человек, естественно, ничего сделать не может. Поэтому политтехнолог должен понимать, как работает каждый инструмент, и может найти людей, которые умеют с ним работать. Эти люди должны хорошо сочетаться с друг другом. Важно, чтобы была команда. Довольно часто бывает так, что талантливые участники команды начинают гасить друг друга, и всё в результате сводится к взаимным дрязгам. Политтехнолог — человек универсальный: он процесс придумывает, его организовывает и им руководит.
Больше мне нравилось работать при Ельцине. В то время было гораздо больше возможностей для творческой самореализации у всех, в том числе и у политтехнологов. Было больше драйва у людей, которые шли во власть, они понимали, зачем они это делают. У многих были, конечно, финансовые и карьерные интересы, но было и довольно много таких, кто хотел заниматься политикой в чистом виде. Сейчас с этим стало сложнее. Система стала более устоявшейся и жёсткой. Надо сказать, что и возможностей для общения кандидата (я сейчас про выборы говорю) с избирателем стало меньше. Всё жёстко регламентировано законом. Это не плохо, но он так устроен, что затрудняет общение между кандидатом и избирателем.
Я участвовал в избирательной кампании 1996 года в штабе Александра Ивановича Лебедя. Совсем уж спойлером, если мы вспомним Александра Ивановича, в той кампании он быть не мог. Но безусловно существовали определённые договоренности, что нормально. Спойлер — в классическом понимании это кандидат, которого ведут люди другого кандидата, а он — кукла, надетая на руку этих страшных кукловодов. Александр Иванович таким человеком не был. Он объективно политически забирал много от электората, протестного и патриотичного, но не коммунистически настроенного. Была ли вероятность, что этот электорат уйдет к Зюганову? Да, была. Но, если бы Геннадий Андреевич не вел кампанию совсем уж под красным знаменем с портретом Сталина на нем, это могло бы произойти. Но тогда это отпугивало людей.
Про те выборы много говорят, много легенд ходит. Но я считаю, что, прежде всего, их проиграл сам Зюганов, и в каком-то смысле он сделал это еще до выборов. Сразу после парламентских выборов зимы 1995 года мы собрались небольшой компанией действующих на тот момент политтехнологов — это была первая наша корпоративная встреча, на которой мы обсудили, что происходит с политикой и нашей профессией в стране. На ней мы чисто умозрительно попытались решить, как Ельцин со своим тогдашним рейтингом, может выиграть выборы. Все сошлись на том, что Зюганову просто нужно начать вести себя как уже состоявшемуся президенту — люди это увидят и отшатнутся. Он ровно это и сделал. В конце марта – начале апреля 1996 года он стал выступать как президент. Стал говорить вещи, которые очень многим людям не импонировали. У него был свой электорат, который с легкостью принимал Сталина на красном флаге, но для привлечения нового они не сделали ничего.
Насчет фальсификаций я не знаю. В то время ещё не было таких изощренных избирательных технологий. Они в каком-то виде были, конечно. В то время много губернаторов поддерживала Зюганова, и если, используя определенные статистические инструменты, мы посмотрим на некоторые регионы, то увидим некоторые отклонения. Но в значительной степени результаты выборов были честные.
Суммарная роль политтехнологов в победе Ельцина, конечно, была высока. Но высока роль политтехнологов и в поражении Зюганова, потому что они тоже у него были и провели ту кампанию, которую провели. С Борисом Николаевичем работали самые разные люди. И те из них, кто управлял ситуацией, реально сделали очень много для победы. Ельцин тогда, действительно, изменился, буквально восстал. Было впечатление, что он борется с собой прежним. Это производило сильное впечатление, и это явная заслуга политтехнологов.
Мне повезло в своей жизни встретить человека, который работал губернатором, и у нас совпадали взгляды на то, что надо делать. Вячеслав Евгеньевич Позгалёв предпочитал работать исключительно политическими методами. Много он работал и с социальными технологиями. Благодаря этому выборы у него получались сами собой. Он понимал, что нужно работать постоянно, нашёл огромное количество каналов коммуникаций с населением региона и различными его стратами. Позгалёв эту систему выстраивал очень долго. Что-то не удалось сделать. Дело не в том, что я был советником губернатора (корочки могло и не быть), мне было безумно приятно и интересно работать с Позгалёвым. Я рад, что такие люди есть и сейчас.
Собственно, идея объявить Великий Устюг родиной Деда Мороза принадлежала самому Позгалёву. Это классная идея. Можно спорить, что было сделано правильно, а что нет, но проект живет, бренд процветает. Это многое говорит о качестве изначальной идеи. Не всё в нём развивается оптимально, но тот факт, что количество людей, которые не только зимой, но и летом хотят посетить Устюг, стабильно превышает его возможности, демонстрирует силу бренда. И это при том, что деньги, вложенные в него, нельзя назвать большими.
Кстати, Позгалёв также сам придумал выдвинуть Деда Мороза на роль символа Олимпиады в Сочи. А вот «предвыборную кампанию» Деда Мороза на эту роль вёл уже я. Её я считаю в целом удачной. Что может быть более русское и зимнее, чем Дед Мороз?
Многие мои коллеги пошли работать заместителями губернаторов и мэров. У каждого из них были свои мотивы этого решения. Бывают же совершенно разные жизненные обстоятельства. Кому-то интересно попробовать себя в новом качестве, почувствовать себя с той стороны. Кого-то привлекала карьера в государственной службе. Кто-то хотел из этой сферы затем перейти в публичную политику. Это касается и партийных структур. Некоторые мои коллеги предпочитают работать внутри партии, но есть те, кто этого не делает принципиально. У меня никогда не было желания идти во власть. Меня это не привлекает, этот вид деятельности не для меня. Возникают жёсткие ограничения при принятии собственных решений.
Карьеру политтехнолога с нуля можно сделать и сегодня. В силу того, что я до сих пор преподаю химию и у меня в команде много молодых людей, могу сказать, что они во всем отличаются от нас: в образе жизни и во взглядах на мир. Благодаря этому можно найти совершенно иные подходы и инструменты, которых никогда ранее не было. И если понимать, что именно это поколение с каждым годом будет все более значимым, и целенаправленно работать с ним прямо сейчас, то со временем можно достигнуть в сфере политических технологий значительных результатов.
Политтехнолог должен иметь незасорённые мозги. Работать в этой профессии можно, только имея жёсткие внутренние принципы. Они у всех, конечно, разные. Но без этого ничего не получится. Без них тебя просто сломают. Довольно часто возникают жесткие ситуации с клиентами и другими людьми, и если каждый раз исходить из набора каких-то новых установок, то вряд ли у вас что-то получится.
Вопрос денег играет важную роль. Если их много, то деньги заставят меня хорошо работать. Конечно же, есть люди, с которыми я ни за какие деньги не стану работать, думаю, такой список есть у каждого из моих коллег. Но у всех он разный.
Я не очень понимаю, как может происходить лицензирование политтехнологов. На основании чего? Сдачи нормативов и экзаменов? Что в них тогда должно быть? На основании профильного образования? У нас нет профильного образования. Ведь политологическое и социологическое образование принципиально другое. Оно полезно, но не принципиально. На основании какого-то опыта? Но любая кампания носит закрытый характер, туда не пускают посторонних. И это правильно.
Мне повезло работать с Алексеем Леонардовичем Головковым, который предложил через Бурбулиса идею гайдаровского правительства, потом он создал и придумал «Наш дом – Россию» и предложил затем «Единство» Березовскому. Повлиял ли он на историю? Это к вопросу о роли политтехнологов в постсоветской России. При этом он был руководителем аппарата правительства, возглавлял «Росгосстрах», был депутатом Госдумы, у него в карьере были высокие должности. Но всё, чем он в реальности занимался — это были обычные политические технологии.
А химию я преподаю в свободное от политтехнологий время.
В 1985 году 23 апреля в программе «Время» смотрел репортаж об Апрельском пленуме ЦК КПСС. Был студентом в это время, учился.
последних 30
Андрей Богданов
читать интервью
скрыть интервью
общественный деятель, 46 лет, Москва
Политические технологии — это набор средств для достижения политических целей. Это может быть и желание избраться на пост мэра, губернатора, президента, может быть и принятие определенных политических решений, в том числе и законов на разном уровне.
Моя политическая деятельность началась еще в школе в советское время. Первый раз я использовал политические технологии, когда в 14 лет стал членом райкома Комсомола, был одним из самых молодых там. Я жил в Солнцево. Оно только-только стало Москвой, 33-м районом. Предприятий там было мало. Процентов семьдесят комсомольцев в Солнцево были школьниками. А я тогда активно занимался спортом и был среди сверстников известен. Поэтому, когда состоялась комсомольская конференция, я этим воспользовался и избрался в райком.
Каждый период постсоветской истории был интересен по-своему. Мне трудно сказать, когда мне было интереснее, легче или азартнее работать. Ну и я тоже меняюсь. Когда я был без семьи, был сорвиголовой. Взрослеешь, и появляется больше ответственности перед семьей и обществом. Меняется отношение и к политике.
Все мои партийные проекты по-своему мне нравятся. В каждый из них я вкладывал душу. Есть такое выражение «бьешь баклуши», то есть делаешь заготовки для ложек. Вот в каждую такую «баклушу» я стремился и стремлюсь сделать с полной самоотдачей. И создание партий, и работа на губернаторских и президентских выборах, работа за рубежом были интересны. А работать приходилось в Крыму, Казахстане, Прибалтике, определенных людей консультировал и в Африке.
Почему я занялся партийным строительством? Это всегда большое количество людей со своим мнением, которых нужно соединить вместе, сгладить острые углы и привести к одному знаменателю. Так получилось, что психологически мне это удается делать неплохо. В этом смысле я пошел по лёгкому пути — делал то, что получается лучше всего. Ну и все-таки политтехнолог в качестве просто консультанта — это одно, а когда у у него есть еще и инструмент для достижения своих целей — партия, то консультант совсем другой вес имеет. Любой мастер имеет собственные инструменты — это касается и политтехнологов. Каждый из них обладает своим инструментарием. Собственная партия — это самый мощный инструмент, которым может обладать политтехнолог.
В качестве кандидата я участвовал в выборах разного уровня. Это важно — изнутри «пощупать» выборы. Я начинал с самых низов. Был десять лет муниципальным депутатом в Солнцевском районе. Был заместителем председателя муниципалитета. В общем, на «земле» отработал долго. Это дало мне важное понимание, что движет политиками с самого начала их деятельности. Нельзя же просто сказать: «Я пойду в президенты», — без какого-то политического опыта. Чтобы быть хорошим консультантом, опыт реальной политической работы чрезвычайно полезен. Если ты сам избирался и побеждал на выборах, то лучше понимаешь, как вести избирательную кампанию. Если ты сам разрабатывал и продвигал какие-то законы, то сможешь организовать принятие закона, который нужен заказчику.
Участие в президентских выборах 2008 года дало мне испытание «медными трубами». «Огонь» и «воду» я к тому моменту уже прошел. Президентская гонка дала прививку от «медных труб». Шла кампания, я заходил в метро, меня тут же окружали и задавали вопросы как действующему президенту. И советы давали как президенту. В таких встречах бывали и положительные, и отрицательные моменты.
Почему либералы не могут создавать работающую коалицию? Собралось три либерала — получили четыре мнения. Например, партия «Яблоко» — главный и первый политический спойлер в России, который выдвинул Ельцин. Тогда была и сейчас есть «Демократическая партия России» (ДПР). Явлинский тогда был председателем консультативного политического совета ДПР. За неделю до съезда партии планировалось, что он войдет в список вторым или третьим. И вот за несколько дней до этого события он объявляет, что будет делать блок «Явлинский-Болдырев-Лукин», и они пойдут отдельно. Это сделала команда Ельцина, которая противилась объединению всех демократических сил.
И вот в 1997 году на муниципальных выборах в Солнцево я боролся с кандидатом от «Яблока», который был в высоких милицейских чинах. В 10-11 вечера милиция делала обход по квартирам людей, которые подписались за меня. Они взяли подписные листы в Избиркоме и распечатали их копии. Что они делали? «Вы подписывались? Если нет, то мы еще раз проверим и накажем», — говорили они людям, отходящим ко сну. Естественно, что на многих это действовало, и человек сто заявили, что ничего не подписывали. Мы с командой людей, которые собирали подписи за меня, еще раз всех обошли, и спрашивали: «Подписывали ли они?». Они подтверждали, мы брали их с собой и шли в суд. Когда шло разбирательство вокруг подписей, эти люди стояли у суда. Решение было принято в нашу пользу.
Всегда трудно определить: кандидат или партия — спойлер или не спойлер. Вот «Партия жизни» кем была? Объединилась с «Родиной» и «пенсионерами», стала партией «Справедливая Россия», которая набирала с самого начала по 7%. Другой вопрос, кто их объединял. Появившиеся неожиданно «Единство» было спойлером «Отечества-Всей России» или нет? «Партия патриотов» и «Родина» — спойлеры друг друга или нет? Нет, они — спойлеры «Единой России». Но никто не кричит, что они — спойлеры. Так что это всегда от определенных раскладов зависит.
Другое дело, что все партии и кандидаты отбирают друг у друга голоса. Но есть те, кто заходит на соседнюю «поляну» дальше, чем остальные. Ну, или в Америке только политологи могут провести глубокое различие между демократами и республиканцами. А разные политики скачут из партии в партию. На одних выборах шел от демократов, а на других — от республиканцев. Вот Трамп такой. Он чей спойлер?
Ну вот смотрите. Я возглавляю «Коммунистическую партию социальной справедливости» — КПСС. Денег у нас под ее раскрутку мало. Зато есть бренд, который раскручивался с 1952 года. Зачем тратить свои деньги, если есть бренд, над которым работала гигантская пропагандистская машина в течение сорока лет? Ведь КПСС олицетворяет собой определенный набор ценностей, которые половина населения помнит, а из них две трети поддерживает в той или иной степени.
Политтехнологи становятся «толмачами» для общества и политиков. Активисты гражданского общества и бизнес часто не понимают языка, на котором говорят и с которым имеют дело чиновники и парламентарии. И наоборот: политики не понимают языка или даже мышления бизнесменов и гражданского общества. Политтехнологи существовали везде и всегда. Без них не существуют ни демократические, ни авторитарные режимы. Смотрели, наверное, «Игру престолов»? Сколько можете там политтехнологов насчитать? В Малом совете заседают политтехнологи или политики?
А я, конечно, больше политтехнолог, чем политик. Муниципальным депутатом я был, чтобы почувствовать, как работает политика. А в политику в 2008 году я попал волей случая. И, наверное, еще не пришло время в подробностях рассказывать про это. Но этого я не планировал изначально.
Я учился в военном училище и пытался вступить в КПСС. В течение одного дня меня и из кандидатов в члены партии выгнали, и из училища. Тех, кого выгоняли до меня до первого приказа еще заставляли служить. Мне же сказали, что не позволят позорить армию. В Москве в то время Николай Травкин делал «Демократическую партию России». В ней я оказался случайно — товарищи мамы посоветовали. В то время еще была «Конституционно-демократическая партия России», где Дмитрий Рогозин пробыл четыре года, но нигде об этом не говорит. Была еще «Республиканская партия» Николая Лысенко. Вот либералы тоже не любят вспоминать, что Рыжков её просто купил.
Любому начинающему политтехнологу нужно начинать с «земли». Нужно почувствовать все моменты выборов. Я, например, в 1990 году на выборах Ельцина отвечал за киевское направления железной дороги. Был обязан заклеить листовками все станции по этому направлению. В пять утра с лестницей, ведром клея и пачкой листовок садился в электричку и ехал до Калуги и обратно. Выходил на каждой станции. Я до сих пор прекрасно знаю, как много должно быть листовок, как их клеить, как высоко, каким клеем, чтобы их не сорвали, и сколько на это нужно времени. Клей нужен, кстати, разный в разное время года. Поэтому меня до сих пор не проведешь во время агитационной кампании, когда кто-то жалуется из участников команды на недостаток времени или средств. Я сам разносил газеты по подъездам, раздавал их в электричках. Был членом избирательных комиссий, знаю, как там работают, как можно сделать всё правильно, но не нарушить закон. Ролики я тоже снимал. Митинги и пикеты собирал и выступал на них.
Выборы выигрываются до выборов. Их результат зависит от правильного предварительного переговорного процесса, в ходе которого ты выключаешь из игры своих конкурентов. Это важное правило. Его нужно помнить начинающим политтехнологам.
Если мы говорим о политике, я не говорю о масонстве. Если мы говорим о масонстве, я не говорю о политике.
В 1985 году я в школе учился, заканчивал седьмой класс и шел в восьмой.
последних 30
Евгений Минченко
читать интервью
скрыть интервью
генеральный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», 46 лет
Политические технологии — это поддающийся описанию набор последовательных действий, который позволяет участнику политического процесса достигать намеченных целей.
Потребность в политических технологиях была всегда. Внутри советской власти существовал институт консультантов. Но в конце 1980-х годов на них появился повышенный спрос, потому что возникли конкурентные выборы. Причем надо помнить, что конкурентные выборы начались еще до знаменитых выборов в Верховный совет. Впервые советские люди выбирали на конкурентной основе директоров заводов в 1988 году. Так один из моих учителей Алексей Ситников консультировал человека, который хотел выиграть заводские выборы на одном из промышленных гигантов страны. А потом уже пошли все остальные выборы, которые начали формировать рынок услуг политических консультантов.
Политическим консалтингом я занялся, как и многие, в начале 1990-х годов. В 1992 году я заканчивал истфак. Моя дипломная работа называлась «Психотехнологические аспекты внутрипартийной борьбы в Коммунистической партии в России в 1920-е годы». Я тогда очень увлекался психологическими технологиями — была мода на нейролингвистическое программирование (НЛП). Параллельно работал тренером по восточным единоборствам. В этой работе я активно использовал НЛП. Вводил людей в состояние транса, благодаря которому бойцы могли переносить повышенные нагрузки, снижать чувствительность к боли, быстрее реагировать. Параллельно я изучал использование этих технологий в политике. Например, изучал, как строили свою политическую стратегию Троцкий, Бухарин, Сталин — тогда это была модная востребованная тема.
В какой-то момент меня пригласили заниматься подготовкой сотрудников служб безопасности. В начале 1990-х годов эти службы, как вы понимаете, были очень востребованы. Шло первоначальное накопление капитала, и были необходимы легальные способы защиты накопленного. Собственно, я готовил телохранителей. В ходе этой деятельности я, может быть, выходил за рамки своей компетенции, но пытался давать советы клиентам (для которых готовил этих людей) по стратегии коммуникаций. Им мои замечания показались уместными и по делу. Я стал консультантом по политическим рискам. А в это время как раз начались первые выборы в Государственную Думу. Меня спросили: «Если ты такой умный, то, может, у тебя есть ещё идеи насчет выборов?» Идеи у меня были.
Так я начал консультировать уже политиков. Вместе с ними учился политике. Поступил в аспирантуру Академии госслужбы при президенте РФ. Учился там по специальности «политическая психология». Там познакомился с большим количеством людей, что мне сильно помогло диверсифицировать географию проектов. Собственно, в 1993 году я открыл первое на Урале имиджевое агентство и стал работать в сфере политических технологий.
Много было разных избирательных кампаний в те годы. Но я не очень хочу называть фамилии. Политтехнологи вообще редко называют имена заказчиков, с которыми работали.
Работа политтехнологов на выборах тогда и сейчас отличается. Сейчас гораздо большее значение имеют разные фильтры. В 1990-е годы мог кто угодно принять участие в выборах. Подписи никто не смотрел, а сейчас их постоянно проверяют. С уверенностью могу сказать, что 95% подписей, которые сдавались в 1990-е годы, были «рисованными», но никто на это внимание не обращал. В те годы была такая замечательная вещь, как избирательный залог. Мне кажется, его зря отменили. Александр Кынев резонно пишет, что сбор подписей — это такой же избирательный залог, финансовый ценз, замер ваших финансовых возможностей. Без денег сбор подписей всё равно не проведешь. В 1990-е годы требования законодательства часто просто игнорировались.
Я помню, в 1996 году мы пришли в избирком с листовками нашего конкурента, который выпустил их без выходных данных. Нам отвечают, что они их пожурят. «Но это же запрещено!» — возмутились мы. А нам отвечают, что мы скандальные и с нами неприятно общаться. В итоге все махнули рукой. В тот год у нас был юрист, который приходил к нам раз в неделю в свободное от работы время. Тогда просто не было электоральных юристов, которые сейчас во многом делают погоду на рынке политических технологий. Да и в СМИ можно было публиковать всё что угодно. А уж про финансирование, бюджеты и говорить не приходится. Я думаю, 90% черного нала была в бюджетах избирательных кампаний. Сейчас не больше 30-40%. Ну вот, например, выборы губернатора Красноярского края в 1998 году. Официальный бюджет кампании не мог превышать 50 тысяч долларов. А только Лебедь потратил не менее десяти миллионов. А совокупный бюджет всех кандидатов был, наверное, 25-30 миллионов.
Были и случаи беспрецедентного снятия. Покойный Борис Ефимович Немцов отличился, когда аннулировал выборы мэра Нижнего Новгорода. Тогда победил Климентьев, с которым у губернатора был конфликт. И наши либералы в первых рядах принялись помогать и поддерживать отмену результатов выборов в городе с миллионным населением по совершенно надуманному поводу.
Мне было интереснее всего работать в начале 2000-х годов. Высокая конкурентность ещё оставалась, а денег было больше.
В выборах участвуют переплетенные между собой экономические и политические элиты, разные группы интересов среди населения, различного рода медиа. С последними всегда были непростые отношения у политтехнологов, потому что медийщики любят апеллировать к тому, что именно они не только доставляют сигналы сверху вниз, но и определяют их содержание, а не люди нашей профессии. А вот политтехнологи на выборах, до и после них, работают в сфере обслуживания, которая оказывает услуги населению. Наша задача обеспечить коммуникацию политиков, бизнесменов и населения с максимальной пользой для всех.
Да, надо отметить, что политика и бизнес не всегда пересекаются между собой. Путин сделал много для того, чтобы эти две сферы разграничить. Политики обязаны сейчас сами искать себе финансирование. В этом смысле Жириновский у нас в стране был первым профессиональным политиком и долгое время им оставался. Но сейчас постепенно появляются другие профессионалы в политике.
Человек, который хочет сделать в данный момент карьеру в политических технологиях, должен получить фундаментальное гуманитарное образование. Оно просто научит работать мозги. Дальше нужно попасть куда-то в подмастерья, чтобы посмотреть, как работают состоявшиеся мастера. Нужно иностранные языки знать. Сейчас в России кризис жанра, но он не будет продолжаться вечно. Поэтому, если хочешь быть эффективным прямо сейчас, то нужно учитывать, что у нас соотношение электоральных и неэлекторальных процедур примерно 60 на 40. Нужно изучать эти неэлекторальные механизмы.
В 1985 году я учился в восьмом классе и вступил в ряды ВЛКСМ, еще не зная, что через 4 года меня из этой организации торжественно исключат.
последних 30
Константин Калачёв
читать интервью
скрыть интервью
политолог, 50 лет, Москва
Я до сих пор не до конца понимаю значение термина «политические технологии». Каждый в них вкладывает что хочет: электоральные и неэлекторальные технологии, использование административного ресурса и работу с распространением информации, полевую работу.
Политическими технологиями я занялся в 1990 году, если не раньше. Предшествовали этому разные занятия.
В то время, когда я работал в педагогическом училище №5, где преподавал историю, я познакомился с Михаилом Астафьевым, который позже примет участие в создании «Демократической России», и само это название придумает. На Проспекте Мира был «Клуб избирателей Дзержинского района», куда я захаживал.
В студенческие годы я увлекался историей русского либерализма. После учёбы этот интерес не пропал, я продолжил свои изыскания в этой области: переводил «Оксфордский манифест либерализма», списывался со всякими европейскими либералами. В итоге меня стали считать специалистом по либерализму, получал приглашения на конференции молодых либералов в Германии. Либерализм тогда ещё не был в мейнстриме. Его место занимал социализм с человеческим лицом. А сам либерализм мне пригодится позже. Вместе с Астафьевым принял участие в создании «Конституционно-демократической партии России», которая, как считалось, наследовала дореволюционным кадетам.
Потом я познакомился с Дмитрием Рагозиным и так попал на работу в Российско-американский университет. Там я изучал становление советской многопартийности, которая происходила тогда благодаря усилиям разного рода неформалов. Я ходил на съезды всех образующихся в то время партий: ЛДПР, «Демократической партии России» и других. Вступал в них, коллекционировал партбилеты.
Ну и кроме всего прочего, сам ходил на митинги и кричал «Долой КПСС!» И даже был членом координационного совета движения «Демократическая Россия». Правда, пробыл я там недолго, потому что меня «затошнило» от тех, кого называют «демшизой». В августе 1991 года я еще один день постоял у Белого Дома, но после этого мои дорожки с «демократами» разошлись.
Но околополитикой я продолжил заниматься. И она меня внесла в списки «Партии российского единства и согласия» (ПРЕС) Сергея Шахрая на выборах в Госдуму в 1993 году.
А вот в 1996 году я занялся выборами в качестве политтехнолога. Я отчаялся стать политиком и понял, что чужими кампаниями заниматься проще.
Я учился политике и политическим технологиям прежде всего у своих западных коллег, с которыми поддерживал связи: с немецкими молодыми либералами, с норвежской «Партией прогресса». Европейский опыт изучал очень внимательно. Вообще, все российские политтехнологи учились по одним и тем же книжкам, переведённым с английского языка. А вот чему можно было научиться на тех учредительных съездах партий в начале 1990-х годов, я не знаю. Помню, когда учреждали ЛДПР, за вступление требовали заплатить три рубля, которых мне было жалко. В итоге ЛДПР — это единственная партия, в которую я тогда не вступил.
Я «Партию любителей пива» не создавал. Она создалась сама. В 1993 году я вёл переговоры с несколькими партиями о своём участии в выборах в Думу. Как я уже говорил, избирался я от списков ПРЕС. Это была одна из тогдашних партий власти, которая попала в парламент. Но места во фракции мне не нашлось. Когда это стало ясно, то я пошёл со своим старым товарищем Димой Шестаковым, который тоже баллотировался в Думу, попить пива. Мы обсуждали итоги выборов. Товарищ мне признался, что не голосовал за ту партию, по спискам которой он шёл: она ему не нравилась. Я спросил, вызывает ли у него симпатию хоть одна партия, которая шла в Думу. Он ответил, что если бы была «Партия любителей пива», то он наверняка за неё бы проголосовал. Я сказал: «Дима, сейчас будет».
Дома я быстро сочинил информационное сообщение о проведении учредительного съезда «Партии любителей пива» и разослал его по СМИ. Председателем я назначил Диму Шестакова. Скоро пришёл отклик из ИТАР-ТАСС: «Как вступить в вашу партию?» Один из сотрудников изъявил такое желание. И уже вечером по телевидению объявили о создании в Москве партии. Отступать было нельзя. Но заниматься ей я не хотел, оставив её Диме. Но согласился помочь. Я поехал к ныне убиенному хозяину ресторана «Гамбринус». Мы с ним договорились, что он предоставит нам пива в неограниченном количестве, а я ему для рекламы — журналистов в неограниченном количестве. Там и устроили нашу пресс-конференцию, и везде сообщалась, что она состоялась в «Гамбринусе».
Мы напоили всех журналистов. Уже до начала пресс-конференции все были пьяные. Но в зале работали 14 камер. А так как я человек тщеславный, понял, что не могу упустить такой момент и заявил перед камерами, что я генеральный секретарь партии, начнём нашу конференцию, задавайте вопросы.
Все это казалось веселым хэппенингом, а потом пришли первые соцопросы — 1,5% россиян были готовы проголосовать на следующих выборах за «Партию любителей пива». Встал вопрос о регистрации. Нас долго не хотели регистрировать. В итоге я звонил в АП и говорил, что нам не позволяет это сделать Коржаков. А потом звонил Коржакову и говорил, что нас тормозят в АП. В итоге эти две силы как-то надавили друг на друга, и нас быстро зарегистрировали. До сих пор не знаю, кто именно препятствовал этому процессу. Удивительное время было. Можно было легко позвонить и руководителю Администрации, и Коржакову.
Нас зарегистрировали, и мы пошли на выборы в 1995 году. Заняли позорное 21 место в самой середине списка. Мы выходили на выборы с реальным рейтингом 1,5%. В ходе кампании легко могли добрать еще. Но подкосили нас три вещи.
Во-первых, моя наивность. Я решил передать большую часть денег в регионы, чтобы они проводили кампанию сами на свое усмотрение. Там эти деньги были благополучно пропиты региональными лидерами.
Во-вторых, меня во время избирательной кампании бросила девушка, и я впал в глубокую депрессию. У меня был эфир на «первой кнопке», должен был участвовать в дебатах с Жириновским и Явлинским. А по дороге в Телецентр я выпивал бутылку Finlandia — иначе не мог собраться. Кстати, она была журналистка. И многое, что я делал в те годы, было направлено на то, чтобы произвести на неё впечатление. Встретил я её на той самой пресс-конференции и ушёл к ней от жены.
А, в-третьих, я показал избирательную стратегию нашему спонсору. Мне тогда казалось, что если человек богаче меня, то обязательно умнее. А он стратегию забраковал. Недавно я её нашел у мамы в шкафу, перечитал — стратегия была правильная. Она была направлена на раскрутку личности, а не бренда. Мы же в итоге раскручивали бренд. Но в России голосуют за человека, а не за вывеску. В результате мы не смогли объяснить избирателю наши конкретные преимущества. Двойка — такую оценку я ставлю себе за эту кампанию.
Но есть одно маленькое утешение: мы среди участников выборов потратили меньше всех. Бюджет превышал немногим более 500 тысяч долларов. Но к концу кампании деньги кончились. За несколько дней до выборов я стрелял на улице деньги, чтобы приехать на заседание консультационного совета из лидеров партий при Ельцине.
В 1998 году партия прекратила свое существование. Я был страшно разочарован этим поражением. Понял, что нужно заниматься чем-то другим. Уничтожил все архивы. Тем более, когда я начинал заниматься «Партией любителей пива», то я весил всего 60 килограммов, а через полтора года — 90 килограммов. Надо было завязывать с этим.
Я всегда был несистемным человеком, поэтому не умел встраиваться в иерархию, искал какой-то независимости. Когда мы не прошли в Думу, то начал работать на Московском кабельном телевидении. Боже мой, у меня даже было удостоверение члена Союза журналистов. У меня был шанс развиваться в телевизионном и рекламном бизнесе. Но в этот момент ко мне вернулась та самая девушка. Потом мы снова с ней расстались, и я вернулся к жене. Потом опять всё повторилось. И я понял, что мне нужно уехать из Москвы, чтобы как-то выйти из этого душевного кризиса.
И в тот момент мне как раз предложили поучаствовать в кампании в регионе, как человеку, который сам проводил свои собственные кампании по округу и по партийным спискам. Но звали меня ещё не как политтехнолога, а как одного из членов штаба. Такое предложение поступило из «Никколо М». А дальше меня всё чаще стали звать работать в регионах. Так я колесил по России. При этом мне было некуда возвращаться в Москву — квартиру я отдал жене. Поэтому мне легче было жить в Ижевске или в Волгограде.
Волгоград — это отдельная история. В тот момент, когда оттуда поступило предложение, я уже был готов закончить свои странствия по России, потому что мне поступило хорошее предложение из компании «Старая площадь», я накопил деньги на покупку квартиры. Во время кампании в Бурятии я познакомился со своей будущей женой. Она — кореянка, но тогда жила в Волгограде. И я поехал в этот город вслед за ней.
Приехав в Волгоград, мне нужно было чем-то заниматься. Я вспомнил, что у «Старой площади» был один клиент, который хотел баллотироваться в Думу от Волгоградской области. Мы с ним встретились, я предложил ему свои услуги. Произошло это в 1999 году, а мэром он стал в 2003 году. Но хотел он стать сначала не мэром, а депутатом. До выборов еще оставалось время, поэтому я предложил использовать этот отрезок. Там как раз были мэрские выборы, я предложил идти на них. Это было средство раскрутки. Мы хотели напугать руководство Волгограда, потом с ним договориться и занять округ в городе, от которого в дальнейшем стали бы избираться в Думу.
Но кампания наша развивалась неожиданно хорошо. В какой-то момент показалось, что Ищенко могут избрать мэром, мы решили рискнуть. Тем более мэр Волгограда Юрий Чехов совершенно не хотел договариваться. Мы проиграли несколько процентов, но исключительно на вбросах и фальсификациях. Тогда я впервые увидел реальный эффект от административного ресурса. Но мы своего во многом добились. Мы могли легко баллотироваться в Думу.
И уже со второго раза Ищенко стал мэром Волгограда. Он вдруг полюбил город, из которого уехал в 14 лет. Он был успешным бизнесменом, долларовым миллионером. Но, вернувшись на малую родину, захотел стать губернатором. В итоге у нас были готовы планы на ближайшие 10 лет. Меня это устраивало. Жена из Волгограда, вся родня там, ребенок родился там. Я себя уже считал волгоградцем, хотя там меня называли исключительно «москвич».
Я отвечал в качестве вице-мэра за всё. Но чем я горжусь — я отвечал за культуру. Когда я уходил с этой должности, 70% волгоградцев отмечали подъем культуры. Я отремонтировал старый и открыл новый театр, провел карнавал. Тысячи волгоградцев выстроились в прямую цепочку в 90 километров — была такая акция «Волгоград — это мы». Там я занимался тем, чем мне нравится — культуртрегерством. Я организовывал выставки, фестивали, концерты. Провел фестиваль трэш-кино. Я был такой «маленький Капков», денег не было на «большого». Мне их никто не давал, сам искал спонсоров.
Двухтысячные годы были разными. Вплоть до отмены губернаторских выборов всё было как в кино. Например, когда мне отвинтили переднее колесо у машины, и я через сто километров улетел в кювет. Познакомился с местными бандитами, а они мне сообщают: «Твой конкурент тебя заказал». Это был постоянный драйв. Правда, не такой, каким его изображают сейчас: кокаина не было, элитных проституток не было. А алкоголь был. И хард-рок был. Последнюю кампанию в Волгограде я проводил под тяжёлую музыку.
Политтехнологи — это обслуга. Несмотря на все попытки изобразить, что мы здесь что-то решаем, мы на самом деле — обслуга. Самостоятельной роли нет никакой.
Я же не политтехнологом никогда не хотел быть. Занимаюсь я этим, потому что получается и платят. Но я никогда не считал, что это работа — это прежде всего способ выживания.
Мой отец был начальником Управления охраны общественного порядка МВД. В 1991 году командовал всем ОМОНом СССР. Как сейчас пишут, сыграл роль в формировании амбивалентного отношения МВД СССР к Августовскому путчу 1991 года. В дни путча я его уговаривал привести отряд МВД к Белому Дому, стать министром. Но он отказался. Когда я уже был вице-мэром, отец мне сказал: «Найди себе нормальную работу». Я говорю: «Я же вице-мэр». «Найди себе нормальную работу», — повторил отец. Когда меня из вице-мэров погнали, он мне сказал: «Я же тебе говорил. У человека должна быть нормальная профессия». Политтехнолог — из той же самой серии. Это не профессия, им может быть каждый.
Когда-то политтехнологи играли роль. По крайней мере, было такое ощущение, что мы демиурги — создаем мэров-губернаторов. Но всем эти понты быстро посбивали. В том числе и тем, кто рассказывал, что придумал косу Тимошенко. В конце концов, все эти понторезы, которые утверждали, что они сделали Тимошенко, что они сделали Ельцина, оказались не у дел. На самом деле это печально. Ситников в свое время был просто глыбой, задавал тон всей отрасли.
Просто нынешние времена требуют другого. Нельзя представить человека, который сказал бы «я сделал Володина». Нынешнее время требует человека, который откатит максимальное количество денег тому, кто ему подгонит заказ и убедит заказчика, что бюджет нужно раздуть до максимума даже там, где это не нужно совсем. В одном регионе сейчас идет кампания, где «Единую Россию» ведут люди, после которых она постоянно проваливалась. Может быть, они подпольщики? Но сейчас у них третья кампания с «Единой Россией», потому что они умеют хорошо делиться.
Раньше всё было по гамбургскому счету — выиграл ты или ты проиграл. Сейчас выигрывают расклады, которые устанавливает кто-то другой. А твое дело маленькое: сделать фоновую кампанию и отнести денег тому, кто это разрешил.
В современной России элементарно сделать карьеру политтехнолога. Хоть сейчас. Нужно побольше наглости и жадности, немного тупости и готовность отдать половину дохода, чтобы тебе подогнали очередного клиента.
Самые опасные политтехнологи — бывшие врачи, особенно много бывших психиатров. Их главный талант — охмурение заказчиков. Есть бывшие военные — хорошие полевики. Бывшие журналисты — обычно убеждены, что медийная кампания — наше всё.
Чтобы быть политтехнологом нужно иметь здравый смысл и прочитать одну хорошую книжку «Политические технологии» Сучкова и Малкина. Плюс немного опыта полевой работы в двух-трех кампаниях. Больше трех не надо. После этого на заёмные деньги можно покупать дорогой костюм, часы и прочее и идти договариваться с серьезными заказчиками. Так как крупные заказчики обычно к себе не допускают, то разговаривать вы будете с его представителями. И вот им нужно на ушко шепнуть: «Чувак, если этот заказчик будет мой, то главным выгодополучателем будешь ты».
Мне очень хотелось бы быть полезным людям. В этом смысле я романтик и идеалист. Я убежден, что нашу страну нужно обустраивать не только в масштабах собственной квартиры. Я был бы неплохим главой района. В Волгоградской области есть Калачёвский район, и мне предлагали там баллотироваться. Но всё больше в шутку. А может быть, нужно было соглашаться?
В 1985 году я заканчивал МГПИ им. Ленина, исторический факультет. Воспитывал ребенка. Работал в школе в Медведково, был классным руководителем. У меня был в классе мальчик, у которого дома все пили утром и вечером. Я с ним был очень дружен. Потом я ушёл в армию. А он через какое-то время сбросился с крыши.
последних 30
Сергей Маркелов
читать интервью
скрыть интервью
генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», 55 лет
Политические технологии — это набор оптимальных методов и идей для достижения той или иной политической цели. Всё зависит от задач заказчика.
У меня первое образование медицинское. Я был детским хирургом. Потом получил второе медицинское образование, стал психиатром. Это мой базис. А потом я ушел из медицины, стал психологом. Начал работать в «Имидж-контакт», которую возглавлял Алексей Ситников. Он сейчас проживает на Украине.
Сначала мы под его руководством занимались психологическим просвещением, ездили по стране, проводили огромное количество семинаров по эффективным коммуникациям. Обучили таким образом тысяч семь человек. В какой-то момент поняли, что педагогика — это просто трата времени, так как результат твоей деятельности потом от тебя уходит. Шеф у меня был человек быстрый, поэтому решил продвигать те же технологии, но в политике. Первые выборы мы делали в 1995 году: по заказу «Газпрома» выбирали в Перми несколько больших начальников в Государственную думу. С этого момента началась наша большая политтехнологическая деятельность.
Рынок политконсалтинга в России в момент своего рождения определяли две мощные компании, фундаментально отличающиеся друг от друга — «Никколо М» и «Имидж-контакт». Первую создали выходцы из политологической науки Игорь Минтусов, Екатерина Егорова-Гантман, Андрей Гнатюк. Они хорошо разбирались в том, что происходило на Западе, и это знание стали продавать в России.
У «Имидж-контакта» была другая история. В свое время Ситников попал в программу первого студенческого обмена между США и СССР. В Америке он научился нейролингвистическому программированию и завез в СССР эти полушпионские технологии, связанные с программирование личности.
Он начал вести семинары, на один из которых я случайно попал, кажется, в 1992 году. В одной из газет я прочитал рекламу семинаров в Ярославле под названием «Современные подходы к психологии межличностных коммуникаций» — такое длинное название сейчас бы не продалось. Я в то время работал на нескольких ставках, у меня были деньги, решил съездить в Ярославль. И так совпало, что в этот момент Ситников искал себе в команду врача, так как они продавали во многом медицинские технологии. Я хорошо прошёл семинары, поэтому получил предложение вступить в команду.
Приходилось работать очень много. Выглядело это так. Ситников в течение двух дней начитывает по 10 часов лекций и улетает в другой город делать тоже самое. А мы вслед за ним отрабатывали тренинговую часть. В последний день Ситников возвращался и закрывал семинар. Но это было востребовано, и людям нравилось. После одного семинара мы получали заявок еще на тридцать. Денег была уйма, работа была интересной.
Такими путями две компании вошли на рынок. Потом возникла третья — «Пропаганда», которую основал Гнатюк, когда ушел из «Никколо М».
Президентская кампания 1996 года мне хорошо запомнилась. Я был руководителем технологической службы в Ставропольском крае. Базировались мы в Ставрополе, но отвечали за Северный Кавказ. Региональный штаб состоял из двух человек — меня, как главного технолога, и представителя Администрации президента. Больше я никогда не видел такого количества наличных денег. Мне реально приходил КАМаз реальных денег. Я жил в гостинице, и отдельная комната у меня была отведена под «сейф», где мы складывали деньги под потолок. А перед дверью в нее сидели двое автоматчиков. Моей задачей была благотворительная раздача денег. Ко мне отовсюду приезжали бюджетники, которым я выделял эти деньги с просьбой голосовать за Бориса Николаевича Ельцина. Чаще всего просили не на ремонт, а на видео-приставки.
Был, конечно, легкий организационный бардак. За два дня до конца кампании мне пришло два КАМаза с агитационными материалами. Их было нельзя расклеить за этот срок. Поэтому отгрузили мы их на ближайшей свалке за городом, где всё сожгли.
Кампания 1996 года была очень нервная и энергичная. Поднятый рейтинг Ельцина — это, конечно, блестящая работа штаба, находившегося в «Президент-отеле». Но в целом ничего сверхвыдающегося не произошло. Лисовский — молодец, что организовал тур «Голосуй или проиграешь». Но вы помните, во что это всё потом вылилось? Шансов у Зюганова не было всё равно. Что бы мы ни вкладывали в нашу агитацию — коммунисты выборы не выиграли бы всё равно. Потому что система была заточена под то, чтобы коммунисты не могли вернуться.
У меня есть клиент, который занимается банкротством банков. Он мне однажды сказал, что его работа и работа политтехнологов очень похожа. О банкротстве банка объявляют, когда переговоры о нем ведутся уже год-два. То же самое и в политических технологиях — их реальный результат достигается часто задолго до публичной кампании. Как отзыв лицензии у банка — это точка, так и выборы — такая же точка долгого предшествующего процесса. Например, выбор губернатора делается на приёме Путина, когда он просит того пойти на досрочное голосование. Дальше начинается работа технологов. Нас просят не напортачить, так как выбор уже сделан. Проигрыш кандидата власти — это дефект системы. Ну, или какой-нибудь звонок из Кремля, о которым мы не знаем, мешает.
Первая моя кампания, которую я провел в качестве начальника, была, как я сказал, в Перми. Мне нужно было помочь избраться одному из кандидатов в Думу, которого хотел там видеть «Газпром». У этого кандидата было 30% узнаваемости. Он был директором большого предприятия, связанного с газовой отраслью. Нам нужно было довести его узнаваемость в регионе до 60%. Это позволяло говорить о том, что он не только хороший директор, но и хороший политик, который будет отстаивать интересы территории. Легко! Внесли несколько кодов, которых ждали люди, в агитационные материалы и заваливали ими по определенной технологии город. И люди начинали думать о нашем кандидате как нужно нам. Мы, например, придумали такой трюк: инициалы нашего кандидата составляли ВАШ. Эта хохмочка с легким запоминаем хорошо ложилась в агитацию. Мы, естественно, выиграли. Огромный был бюджет. Пригласили всех советских звезд от Пьехи до Кобзона, от «Дюны» до Алены Апиной. Хорошие были три месяца.
Из «Имидж-контакта» я ушел в начале 2000-х годов. Мне хотелось самостоятельно развиваться. Пришлось поговорить с шефом. Ему было безусловно обидно. Какое-то время мы перестали общаться, но потом стали делиться клиентами и рынки друг другу перебрасывали, на Украину потом вместе съездили. Так что в целом всё сложилось неплохо.
На выборах в Верховную Раду на Украине в 2002 году, и на президентских выборах в 2004 году российские политтехнологи сыграли стопроцентную роль. Там в то время рынка политических технологий почти не было. Мы там очень ценились, потому что были теми же советскими людьми, но с опытом кампаний 1990-х годов.
Я, например, на парламентских выборах вёл «Партию зелёных Украины». Их до меня вели английские политтехнологи, которые им расписали идеальную стратегию. Но они их выгнали, потому что англичане не захотели с партией в одном офисе сидеть. В итоге нас взяли. Я, конечно, с них потребовал большую сумму из-за того, что пришлось работать в авральном режиме — 500 тысяч долларов, кажется.
В 1990-е на рынке были «имена». Клиенты между собой общались так: «Тебя кто ведет?» — «Меня Ситников». — «О, а меня Минтусов». Ни Ситников, ни Минтусов ни одной кампании в жизни не провели, но зато создали большие фирмы по предоставлению подобных услуг. Поэтому покупали их «имена». А вот потом ценность «имен» пропала, потому что появилось много компаний — все научились политическим технологиям. И теперь заказчики друг другу задавали другой вопрос: «У тебя москвичи или местные?». Люди с деньгами брали «москвичей», а победнее — «местных». У «москвичей» было преимущество, что они чаще всего ни с кем не были связаны в регионах. В какой-то момент все-таки «местные» стали побеждать. Сейчас Володин считает, что федеральные кампании должны вести «москвичи», а в регионах работать «местные». Поэтому бывшие политтехнологи включаются в качестве чиновников в администрации — такие правила сейчас.
Когда рынок стал сокращаться после 2004 года, стало меньше денег на единицу. Миллион стал даваться не одному человеку, а очень многим, а большая его часть оставалась у того, кто за его распределение отвечал. Поэтому политтехнологу было выгоднее идти во власть. Часть сделала именно так. Я, например, остаюсь в свободном плавании, хотя предложения пойти вице-губернатором куда-нибудь ко мне периодически поступают. Но я уверен, что после губернаторских выборов рынок не сократился, а просто деньги стали распределяться централизованнее.
Мне не нравится работа в системе. Я человек активный, а таких она не любит. Она не любит «якающих» — в системе ты должен быть размазанным, безликим. Но я до сих пор рядом с системой, вижу и подчиняюсь иерархии, но я не в ней — это мое оптимальное состояние как профессионала.
Мне интересно было работать и в 1990-е годы, и в 2000-е годы, и сейчас в 2010-е. В некотором роде сейчас возвращаются «имена», причём, старые — эти бренды до сих работают, производят впечатление на заказчиков. На одной богом забытой территории, где я вел «Единую Россию», до меня дошёл слух, что оппозиционных кандидатов ведет сам Минтусов. Мне удалось его обыграть. Но сам тренд показателен — «имена» работают. С точки зрения денег тяжелее, но сейчас вообще всем тяжело. Рынок политтехнологий полностью зависит от остальной экономики.
Сейчас мир, Россия и политика находятся в фазе турбулентности. Слово «стратегия» нужно забыть, в такой ситуации важна «тактика». В политтехнологиях это означает работу с проектами, поэтому, конечно, соревновательность нужна. Но система настолько сейчас централизованна, что тяжело доказать, что нужно вкладывать большие средства в уровни власти ниже Путина.
Например, в одной городской думе один мужик вложил 50 миллионов рублей, чтобы в нее попасть. В городскую думу! Мы, конечно, с моим кандидатом-единоросом его отодрали, но сам тренд показателен, люди готовы вкладываться в выборы, а власть пока к этому не готова.
Пока же главное преимущество власти в таинственности и не публичности. Я работаю постоянно с нею, и понимаю, что туда попасть можно только благодаря доверию, а не конкуренции. На рынке политтехнологий много предложений, но правила задает власть. Их исполнение — это возможность участвовать в предварительных договоренностях. Приведу пример. Меня берут работать на одного губернатора. Но перед тем, как я вступаю в переговоры, совершается несколько звонков на самый верх, чтобы получить одобрение. Никого не интересует, что Маркелов 20 лет на рынке и имеет колоссальный опыт. Но только после этих согласований меня пускают к деньгам.
Раньше я работал просто: «Ты от Ситникова — получай работу!» В 1990-е годы мприезжали к десяти утра на работу в офис на Бауманской, а перед ним уже стояли машины с деньгами и с просьбой быстрее высадиться в регионе. Теперь же нужно составлять сложный пазл, чтобы попасть в пространство власти. Мне нравится их собирать. Но, если решил, то у тебя всё в порядке — там старые добрые ценники. В Думу, например, можно избраться за миллион долларов.
Работа политтехнолога безгранична. Эта деятельность не имеет границы, за горизонтом еще один горизонт. Горизонты продуцируешь ты сам. Постоянно изобретается новый инструментарий. Иногда можно сделать так, что ты вообще не будешь из офиса выезжать. Мне недавно пришел один заказ из региона на 10 миллионов рублей, нужно было придумать три текста. Сказали, что нужно приехать, но я отказался,потому что в Москве было много работы. Мне тогда оплату сократили до пяти миллионов. Ну, в итоге написали с коллегой три текста по полстраницы формата А4 и получили пять миллионов. Это просто пример той самой безграничности, которой обладает работа политтехнолога.
В 1985 году я работал в Курганской областной больнице детским хирургом. Очень много оперировал. Приходил в больницу утром в понедельник, а в четверг уходил. Был очень жадный до хирургии.
последних 30
Аббас Галлямов
читать интервью
скрыть интервью
политтехнолог, 44 года, Москва
В политике важны и рациональные аргументы, и эмоции. О последних часто забывают — и зря. Помните снижение рейтинга Путина осенью-зимой 2011 года? Я тогда специально провел несколько фокус-групп с избирателями, которые раньше голосовали за него, а тут вдруг решили, что больше не будут. Я пытался найти какие-то содержательные причины разочарования. Удивительно, но их практически не было. Люди по-прежнему одобряли курс Путина. Просто они вдруг захотели чего-нибудь новенького. В жизни так бывает: много лет живешь с женщиной, от которой ты когда-то был без ума, а однажды понимаешь, что что-то здесь не то. Вроде и хороша она как в молодости, и характер не испортился, и готовит, как раньше, замечательно, и детей любит — все вроде в порядке, а чего-то не хватает, какая-то искра исчезла. Иногда люди просто хотят перемен. Это чистая эстетика, здесь нет никакой логики. Вернее логика есть, но появляется она позже, задним числом в виде каких-то аргументов для самооправдания. В политике то же самое.
По первому образованию я учитель английского языка. Закончил педагогический институт в Уфе. Было это в далеком 1995 году. Сразу приехал в Москву, потому что меня порекомендовали в школу Службы внешней разведки. Не прошёл по зрению. Тем не менее в Москве зацепился. Пока шло оформление, удалось познакомиться с разными людьми. Человек, который курировал кадры в башкирском управлении ФСБ и который рекомендовал меня в школу СВР, как раз в тот момент был назначен полномочным представителем Башкирии в Москве. Когда я пришел к нему сообщить, что меня не берут, то набрался смелости и попросился в его команду, в полпредство. Он взял меня в протокольный отдел, а через год назначил своим помощником. Повезло.
Проработав несколько лет, я поступил на вечернее отделение в РАГС, где отучился на политолога. Так получилось, что сидел я за одной партой с сотрудницей Администрации президента, работавшей в пресс-службе. А её муж оказался главным спичрайтером Путина. После окончания Академии она меня с ним познакомила, и он пригласил меня к себе на работу. Так в 2001 году я оказался в Кремле.
Через год Борис Немцов позвал меня возглавить пресс-службу «Союза правых сил», который тогда активно готовился к думским выборам. В тот момент СПС постепенно уходил в оппозицию, но продолжал оставаться респектабельной парламентской партией. Поработал у Немцова, это была отличная школа. Другого такого человека (с такой скоростью реакции и таким живым умом) я в жизни пока не встречал.
Меньше чем через год меня снова сманили в Башкирию. Ушёл, потому что предложили достаточно высокую должность — заместитель полномочного представителя в Москве. В региональной иерархии это уровень министра, большой начальник. Мне еще 30-ти не было, поэтому купился. Да и постоянные конфликты в СПС надоели. Партийные активисты, в отличие от наемных менеджеров, народ очень нетерпимый. Чуть что не по их — сразу скандал. Никаких компромиссов они не признают, идейные люди.
В Башкирии тогда готовились к скандальным президентским выборам 2003 года — Рахимов против Веремеенко. Я отвечал за федеральный пиар и за GR в федеральных властных коридорах. Кампания была мощной, и если бы не Кремль, то Рахимов её скорее всего проиграл бы. Мне повезло, что я оказался тогда внутри. Я своими глазами видел, как проигрывает админресурс, как консервативный провинциальный избиратель вдруг заражается идеей обновления и голосует за московского банкира. Это была отличная школа. Когда я пришел в Башкирию во второй раз, уже при Хамитове, то увидел, что опыт 2003 года никого ничему не научил. Все делали ставку на админресурс, а электоральную работу считали глупостью. Я распечатал таблицу с результатами первого тура выборов 2003 года и всегда держал при себе. Когда глава администрации очередного района начинал меня убеждать, что «у нас все под контролем», я тыкал ему в лицо своей бумажкой и спрашивал: «Вы в 2003 году Рахимову, наверное, тоже говорили, что у вас все под контролем. А чего же у вас в районе Веремеенко больше, чем Рахимов набрал?» На это ответить они ничего не могли.
Надо сказать, что в Башкирии мало кто умеет по настоящему фальсифицировать выборы. Могут только в отсутствие наблюдателей переписать протокол. Как только на участках появляются нормальные обученные наблюдатели, желательно неместные, то всë — система сыплется.
Я упомянул, как консервативный и «вязкий» башкирский избиратель заразился идеей обновления. Знаете, если отбросить лишние слова, которых во время любой избирательной кампании, конечно, произносится немало, то практически всегда выбор, стоящий перед избирателем, можно свести к простой оппозиции: ты за статус-кво или за перемены. Главный аргумент любой оппозиции — «пришло время перемен», действующей власти — «не рискуй; доверяй тому, что знаешь». Перемены — это очень хорошо, но любой избиратель, голосующий за них, должен помнить, что с обещанием перемен к власти приходят не только такие люди, как Обама, но и политики, подобные Эрдогану.
Уже в 2008 году, когда Путин переезжал из Кремля в Белый дом, и шло переформатирование прежних команд, меня снова пригласили в аппарат правительства спичрайтером. Там я проработал до 2010 года, пока в Башкирии не поменялся руководитель.
Новый глава региона Хамитов пригласил меня сначала начальником своего секретариата, а меньше чем через год в должности заместителя главы своей администрации поручил курировать внутреннюю политику. Тогда шла подготовка к думским выборам 2011 года. После этого были выборы президента страны и несколько региональных кампаний.
Мне очень нравится заниматься выборами. Выборы — это квинтэссенция политики. Если ты занимаешься политикой, но не занимаешься выборами, то ты похож на человека, который долго практиковал каратэ перед зеркалом, но никогда не участвовал ни в одном реальном поединке. В такой ситуации у тебя всегда есть подозрение, что, несмотря на красивую технику, в настоящем бою у тебя может ничего не получиться. «Вдруг я ударю, а он не упадет», — думаешь ты. Можно придумать гениальную политическую стратегию, организовать отличную пиар-акцию, но без выборов ты не будешь до конца уверен в том, что ты поступил правильно. А избирательная кампания быстро все расставляет по местам: вот стартовый рейтинг, вот стратегия, вот результат. Все сразу ясно.
Я не полевик. В нашей команде они есть, и я ими восхищаюсь — это люди особого склада. Полевик умеет одновременно делать десять или даже двадцать дел: контролирует написание жалоб в избирком, организует разноску агитационных материалов, отправляет людей в пикеты, принимает отчеты групп контроля и так далее. Я так не могу. Хорошая речь пишется несколько дней: сначала нужно подумать, потом написать, потом еще раз подумать и переписать. Когда ты выстраиваешь медиа-план, придумываешь месседж кампании, то в твоём распоряжении исторические и социологические данные, подробные справки и материалы СМИ. Такая работа должна быть медленной и сосредоточенной. Именно это мне и нравится. Меня и моих коллег можно назвать «идеологами».
Политика — это текст. Об этом говорили Борис Гройс и Сурков. Гройс писал: «Экономика оперирует цифрами, а политика — словами». Логику экономики можно объяснить без букв, показав соответствующие цифры. Логику политических действий с помощью цифр ты не объяснишь, здесь нужны слова, складывающиеся в тексты. Поэтому литература и политика очень близки, особенно в такой литературоцентричной стране как Россия. Я рад, что когда-то попал в спичрайтеры и считаю, что путь из спичрайтера в политтехнологи абсолютно естественный.
Если Ельцину писали текст, и он произносил его дословно, то Путину обычно дают заготовку, а будет он ее читать или нет — не знает никто. Во время трансляций это заметно. Если ему что-то не нравится, то он отвлекается от текста, и начинает говорить своими словами. Письменный текст для Путина — не альфа и омега, а то, от чего он отталкивается. Ключевые тексты, такие как послания Федеральному Собранию, он правит всегда сам. За первый год работы у него, по-моему, серьезно подсело зрение — во всяком случае помню, как в какой-то момент нам велели сильно увеличить шрифты. Видимо, объем того, что ему приходилось читать, был очень велик.
В работе на региональном уровне мне очень сильно помогли приобретенные в Москве связи. У меня было много знакомых федеральных журналистов, с которыми можно было не дежурно, а, что называется, в нюансах обсудить ситуацию. В результате материалы получались с нужными акцентами. Без личного доверия такие вещи сделать нельзя. То же самое касается работы с федеральными чиновниками. Как известно, при Путине вся политика была очень сильно централизована и эффективно работать в регионе без московских связей стало невозможно. Если таковых нет, то ты и половины нужных тебе вещей организовать не сможешь.
Рахимову также, как и Шаймиеву в соседнем Татарстане политтехнологи были не нужны. А вот Рустэму Хамитову они понадобились, потому что в отличие от Рахимова он не политический монополист. Его назначили в пику Рахимову, которого отстранили от власти не так гладко, как Шаймиева. Отсюда и необходимость в услугах политтехнологов в сегодняшней Башкирии: Хамитову приходится бороться с наследием Рахимова. Политтехнологии нужны там, где нельзя просто позвонить и решить проблему криком. Минниханову в этом смысле проще. Поэтому в Татарстане чиновничий аппарат совсем не пуганный и в выборах совсем не разбирающийся. Они по-настоящему конкурентных кампаний вообще не видели. Когда они с ними столкнутся — для них это станет шоком.
Значительную часть жизни я проработал в госаппарате, но в целом быть чиновником — это не моя история. Я никогда не стеснялся это подчёркивать. Например, я старался ходить на работу без галстука, а по возможности и в джинсах. Видимо, это результат того, что как профессионал я формировался в 1990-е годы, а тогда быть креативным представителем негосударственного сектора было намного более модным, чем быть чиновником. Я попал под обаяние этой истории. Но есть противоположный тип людей. Они хотят быть чиновниками, им кажется, что это круто. Есть такие люди и среди политтехнологов. Это не только вопрос доходов, здесь есть и эстетическая составляющая: все-таки Россия слишком иерархичная страна и принадлежность к иерархии обладает особой притягательностью.
Я очень люблю читать про историю выборов. Бывая за границей, всегда пытаюсь найти англоязычный букинистический магазин и скупаю там книги пятидесятилетней давности. Очень обогащает. На самом деле всё уже давно и неоднократно случалось, поэтому вместо того, чтобы в очередной раз изобретать велосипед, ты можешь просто посмотреть, как на нём ехали твои предшественники. Подавляющее большинство пиарщиков, например, считают аксиомой то, что отвечать на атаки соперника не стоит. Оправдываться, мол, нельзя ни в коем случае. Но если ты знаком с историей президентской кампании Трумэна 1948 года, то ты знаешь, что иногда стратегия игнорирования приводит к поражению. Тогда безоговорочный лидер гонки Томас Дьюи проиграл безнадежно отстававшему от него в начале кампании Гарри Трумэну во многом именно потому что игнорируя нападки последнего, сам выпал из повестки кампании. На самом деле бывают ситуации, когда грамотно выстроенное оправдание может оказаться очень успешным. Любой человек, знакомый с историей выступления Никсона во время кампании 1952 года, впоследствии названным «Checkers speech», подтвердит вам это.
Последние полтора десятилетия были очень непростыми для отрасли. После отмены губернаторских выборов в 2004 году рынок очень сжался. Люди стали переквалифицироваться кто во что горазд в диапазоне от пресс-секретаря до рекламщика. Но с 2011 года рынок стал постепенно оживать. Хотя сейчас по нему очень сильно ударил кризис. Если ты в сентябре прошлого года вёл переговоры и кандидат с легкостью подписывался под бюджет в 70 миллионов, то через полгода он же говорил, что сможет найти максимум 30. Конечно же, сохраняется фактор административного ресурса. Но сейчас не так грустно, как это было после отмены губернаторских выборов. Внутриэлитные конфликты сильны, и они все равно выплескиваются в публичную сферу. Прошлогоднее иркутское поражение единороссов — яркий тому пример. Даже те политтехнологи, кто работал на «Единую Россию», в душе были рады, потому что это был удар не столько по единороссам, сколько по той идее, что чиновники сами могут сделать выборы. Иркутск напомнил, что не могут.
В промежутке между выборами политтехнологи каждый по-своему решают, чем им заниматься. У многих есть проекты, связанные с корпоративным PR. По уму хорошая избирательная кампания должна начинаться гораздо раньше, чем за три месяца до выборов. В Башкирии мы делали образцово-показательные полевые проекты, вовлекавшие во взаимодействие с властью по нескольку сотен тысяч людей и длившиеся по полгода. Это высший пилотаж — то, что американцы называют grassroots. Если заказчик умен, то к выборам он будет готовиться несколько лет. Очень важно заранее сформулировать месседж и, безжалостно отбросив все лишнее, сфокусироваться только на нем. Надо отказаться от всех «боковиков», какими бы симпатичными они не казались. Как сказал мне когда-то один опытный коллега: «После того, как ты сформулировал месседж, главное, что тебе нужно, — это победить свой собственный креатив». Если ты справишься с этой задачей, то к выборам подойдешь с внятным, чётко сформированным образом и никакой соперник тебе не будет страшён. В США это давно поняли и избирательные кампании там переходят одна в другую. На следующий день после того, как ты победил на выборах, ты начинаешь готовиться к переизбранию. Называется это permanent campaign.
И всё-таки в современной российской политике роль политтехнологов существенно ниже, чем в 90-е. Тогда власть реально распределялась через выборы, а значит именно профессионализм технолога оказывался тем ключевым фактором, который определял, кому достанутся скипетр и держава. Важнейшим инструментом политической борьбы были СМИ: политики заказывали друг друга журналистам. Сейчас они предпочитают обращаться к силовикам, это надежнее.
Я спокойно отношусь к идее сертификации политтехнологов. Если со стороны заказчиков на неё будет спрос, наверное, надо будет её вводить. Правда лично я с тем, чтобы меня спрашивали про сертификат или просили показать диплом о профессиональном образовании, пока не сталкивался. Ты просто рассказываешь заказчику, что, с твоей точки зрения, ему нужно делать и если он с тобой соглашается, то вы начинаете сотрудничать. Если твоё предложение ему не нравится, то никакой сертификат не поможет.
Поиск заказчика — это всегда индивидуальная история. Обычно кто-то кому-то тебя порекомендовал, и люди с тобой связываются. Это старая советская традиция, когда всё решается благодаря личным связям.
Есть ли у меня табу? Немного. Одно из них — никогда не рекомендовать заказчику использовать силовиков. Даже будучи во власти я никогда этого не делал. Я всегда понимал, что чиновничье кресло — это не навсегда, что рано или поздно придётся его оставить и выйти на улицу. И там, на улице, тебе будет спокойнее, если ты будешь знать, что силовики у нас в политике не участвуют. Понятно, что от меня мало что зависит, но это принцип. Надеюсь, что с его помощью я делаю мир хоть чуть-чуть лучше. Я, кстати, не один такой. Есть и другие коллеги, которые думают так же. Других табу нет. Я работаю и с властью, и с оппозицией. В одном регионе, я использую административный ресурс, а в другом ему противостою. Это нормально — такая работа. И с профессиональной точки зрения это очень полезно. Изучать ситуацию с двух сторон баррикад.
От предстоящих выборов нужно ждать существенного снижения результатов «Единой России». Скорее всего, упадёт явка. Если только не произойдёт чего-то из ряда вон выходящего, например, очередного двукратного падения курса рубля. Немало голосов отойдет малым партиям, которые всё равно не смогут преодолеть барьера. Я думаю так, потому что вижу, что избиратель растерян и не удовлетворен имеющимся партийным набором. Ему нужно что-то новое, но при этом не радикальное. Люди осторожны и ломать устоявшийся порядок, даже если они им недовольны, не хотят. Надежды, связанные с данным режимом, ещё не растрачены. Так что запас прочности у системы пока приличный. Хотя и эрозия тоже заметна. Еще год-полтора назад на фокус-группах у сторонников властей ключом били эмоции: они яростно доказывали, что Крым наш, американцы — мерзавцы, а те, кто против Путина, — предатели. Сейчас на уровне содержания то же самое. Однако эмоции почти исчезли. Все пропагандистские штампы повторяются с монотонностью троечника, который урок выучил, но только потому что так надо. Никакого интереса к выученному у него нет. Это объяснимо. Невозможно до бесконечности находиться в таком взвинченном состоянии, в каком находилась страна в течение двух лет после Крыма.
Известный парадокс авторитарных режимов — они очень сильно зависят от настроений граждан. Это только кажется, что на мнения людей им плевать. Умный авторитарный правитель понимает, что нельзя полагаться только на силовиков. Они ведь не в вакууме живут. Они тоже люди и чувствуют настроения других людей. Если они видят, что кроме них у тебя не осталось других сторонников, то почему они должны тебя поддерживать? Они тебя сдадут. Как это произошло с Януковичем или Волынским полком, который в феврале 1917-го отказался стрелять в бастующих петербуржцев, а через день и сам примкнул к ним. За последние 100 лет не было ни одного правительства, которое не рухнуло бы, после того как на улицу выходило 3,5% населения страны. Залог прочности любого режима — это уверенность правящего класса, что он занимает свое место по праву. А если он видит, что народ против него, если эта мысль визуализируется с помощью толп на улицах, то уверенность в своей правоте испаряется. Тогда рука обязательно дрогнет. Чтобы народ не вышел, правитель должен быть по-настоящему легитимным. Других гарантий сохранения власти нет.
Есть два вида легитимности. Первая — экономическая. Это когда ты решаешь проблемы граждан, и их уровень жизни растет. В этом случае они тобой довольны и им не очень важно, насколько законно ты занимаешь свое кресло. Вторая легитимность — процедурная. Это когда ты перестаёшь решать проблемы граждан, и их уровень жизни начинает падать. Вот тогда они начинают думать, а с какой стати именно ты управляешь страной. И если они вдруг вспомнят, что выборы ты сфальсифицировал, а оппозицию разогнал с помощью полиции, вот тогда у тебя проблема. Потому что людям становится ясно, что ты тиран и узурпатор, которого надо гнать в шею. Поэтому совершенно не случайно Кремль сейчас (в ситуации снижения уровня жизни) озаботился темой демократичности выборов. Отсюда и Панфилова, и праймериз, и фокусировка на тезисе об отказе от админресурса. Если одна подпорка начала шататься, то надо укреплять другую. Все логично, все по Хантингтону.
последних 30
Александр Шпунт
читать интервью
скрыть интервью
политический инженер, 48 лет, Москва
Свой род деятельности я называю политической инженерией. Это более точное название, чем политические технологии, и тем более политическая аналитика. Я занимаюсь тем, что разрабатываю политические проекты и предлагаю их для реализации политикам. Они их покупают, а дальше или сами претворяют в жизнь, или нанимают для этого политических технологов. Я же над этими проектами осуществляю авторский надзор.
Провести разделение между политической инженерией и политическими технологиями мне помогло образование — я закончил Бауманский институт. Мне еще в 17 лет, благодаря моим учителям, была понятна разница между инженерным бизнесом и наукой. В науке 2x2 — всегда четыре. В инженерном бизнесе никогда не четыре. Если инженер говорит о том, что у него 2x2=4, то это означает, что он пришел в другую специальность. В инженерном бизнесе 2x2=4, +0,03; -0,06. Всегда есть допуск и посадка.
Политологи занимаются политической наукой. Они способны описать какие-то процессы, выстроить последовательности, выявить причинно-следственные связи. А политическая инженерия — это создание некоего проекта. Здесь лежит разница между политологией как наукой, политической инженерией и политическими технологиями.
Я получил лучшее в этой стране инженерное образование. Я специалист по военной лазерной технике. Меня и моих сокурсников готовили для противодействия рейгановской программе «Звездных войн». Я защищался по тяжелым твердотельным лазерам на алюмоиттриевом гранате с неодимом. Но к тому моменту, когда я заканчивал Бауманский институт, оборонная промышленность уже лежала на боку. Но я был одним из тех счастливчиков, которым преподавали компьютерные технологии на том уровне, на котором они в то время существовали. И я достаточно быстро интегрировался в компьютерный бизнес как продавец. К счастью, я занимался не персональными компьютерами, а тяжелыми мэйнфреймами.
Внутри этого бизнеса я занимался продажами и маркетингом — создавал в этой стране технологии маркетинга для тяжелых компьютеров. В нашей компании отдел маркетинга, кажется, вообще появился первым среди тех, что торговали такими системами. Но потом нашу компанию купили американцы, и мы были заменены американскими директорами. После чего владелец издательского дома, который занимался изданием книг и журналов о компьютерной тематике, обратился ко мне с таким сигналом: «Саша, ты столько рекламы у нас покупал, что продавать ты ее точно сможешь». Я стал директором по доходам этого издательского дома. Потом обнаружил себя директором уже обычного издательского дома.
Постепенно я стал сближаться с ребятами, которые работали в редакциях. И так я вошел в избирательные кампании. До 1999 года моя деятельность в этом направлении не очень интересная. А вот в тот год я стал работать на Юрия Лужкова и Евгения Примакова и на их движение «Отечество-Вся Россия» против Путина и «Единства». И когда эта кампания закончилась, Глеб Павловский и Макс Мейер пригласили меня в штаб Путина. В конце 1999 года я приступил к работе.
Для политических инженеров и политических технологов, так же как и для адвокатов и спортсменов, если ты участвуешь в кампании и не нарушаешь кодекса поведения, ничто не запрещает тебе пойти работать на прежних соперников, когда контракт с предыдущим заказчиком окончен. Это не уникальный пример. Все сегодняшнее руководство Администрации президента, да и Владислав Сурков, работали раньше с Ходорковским. Немало и тех, кто сейчас находится в жесткой оппозиции, а работали раньше на Кремль. Я специально не называю имен — они могут сами о себе рассказать. Здесь нет никакого предательства. Мы не сторонники — мы профессионалы.
После окончания выборов я остался работать в «Фонде эффективной политики» (ФЭП) Павловского. Фонд существовал и до этого, но после президентской кампании приобрел новое наполнение — стал личной аналитической службой Владимира Путина. В должности исполнительного директора ФЭП я проработал вплоть до 2011 года, до решения Путина идти на третий срок.
Так получилось, что в тот момент люди, работающие с Кремлем, содержательно разделились на два лагеря. Одни люди говорили о том, что второй срок президента Медведева будет менее травматичен для страны и предсказывали «Болотную площадь». В частности человеком, который почти точно высчитал параметры «Болотной», был Сергей Белановский, который работал у нас в ФЭП руководителем социологической службы. Вторая группа указывала, что риски от управления страной слабым президентом Медведевым гораздо выше, чем от делигимации третьего срока Путина. Обе группы были полностью лояльны и не относились к оппозиции, и не стремились к этому. Решение было сделано в пользу третьего срока. Сменился состав Администрации. Ушел Владислав Сурков, и вместе с ним ушли мы.
Здесь началась другая история, тоже связанная с политической инженерией, но уже не связанной непосредственно с работой на Кремль. Хотя многих из нас он и сейчас задействует в своих проектах. В частности, я и многие мои коллеги выполняли по Украине те или иные задачи. Мы в этом смысле не выпали из обоймы. Администрация, в которой идеологией руководит Володин, больше в услугах ФЭП не нуждается, но в услугах каждого из нас в отдельности нуждается.
В 2011 году не было никакой интриги. Не было борьбы «сурковских» и «володинских». Это очень примитивный взгляд. Нужно исходить из первого базового параметра: обе группы — абсолютные лоялисты. В них нет ничего оппозиционного. Как в любой большой команде, есть личные симпатии и антипатии, но не они здесь работают. Выбор между Медведевым второго срока и Путиным третьего срока в действительности был выбором некого нового направления организации внутренней политики в стране. После выбора этого направления, которым стал руководить Володин, ФЭП в его прежнем виде просто был не нужен. Под него не было задач. Каждый из нас отдельно задействован в работе на Кремль, но как политическая корпорация, создающая проекты определенного типа, мы больше не работаем.
У политических технологов и инженеров существуют запрещенные поля. Например, работа с фашистами. Есть небольшая группа политтехнологов, которые с фашистами работают, но тогда они только с ними и работают. Есть и еще несколько, так сказать, экзотических полей, на которые мы стараемся не заходить. Всё остальное не является преградой.
О политической корпорации, в которую входят политтехнологи, политинженеры и политологи, существует два мнения. Одни говорят, что политтехнологи — демиурги, другие — что обслуга. На самом деле правильны обе позиции. Они нанятые визири, которые делают короля. Один из моих учителей, а у меня были великолепные учителя в этом бизнесе, сказал, что «кто-то им варит суп, кто-то гладит рубашку, кто-то водит машину, а мы им думаем». Это такой же сервис — не нужно преувеличивать свою роль. Но объективно иногда роль этого сервиса была очень высока. Были случаи, когда политическая корпорация управляла процессами в стране.
В России сознательно, решением еще Бориса Ельцина, была выбрана модель, согласно которой ни у одной финансово-промышленной группы не должно быть своей политической силы. Леонид Кравчук повел Украину после распада СССР по принципиально другому пути, дав возможность каждой финансовой группе получить политическое представительство. Ельцин приоритетом ставил сохранение контроля над политической ситуацией, Кравчук – создание в стране реальной политической конкуренции, пусть даже через конкуренцию олигархическую. У каждого из них была своя логика, в момент старта не было предпосылок считать один путь хуже другого.
Ельцин пошел по этому пути во многом под влиянием Березовского, который создал такое явление как «семибанкирщина» — консенсус сверхкрупного бизнеса по отношению к политике. Одно из важнейших правил — никто из них не мог создать свою политическую партию. Единственным нарушителем консенсуса был Ходорковский, но это случилось после выборов Путина. Это привело к тому, что политика России не обслуживала корпоративные интересы, в отличие от Украины, но это не позволило развиться в политике реальной конкуренции. И уже выборы 2000 года были по сути плебисцитом — одобрением или неодобрением единственного кандидата.
Так вот, если нет конкурентного предложения, то это повышает спрос на услуги политической корпорации. Содержание политики во многом формировалось в этой среде, потому что больше ему этого было негде сделать. Мозговые центры, фабрики мысли, распространенные на Западе и выполняющие эту задачу, в России просто отсутствуют как отрасль.
Начиная от путинского «мочить в сортире» до медведевских «нацпроектов» - всё было рождено в недрах политической корпорации. Например, до Глеба Павловского в российской политике существовала аксиома, что, если политик влезет в Чечню или тронет эту тему, то он закончится как политик. Так и с сельским хозяйством, кстати. Павловский перевернул эту ситуацию: он доказал, что человек, который захочет решить проблему с Чечней, вне зависимости от того, достигнет он этой цели или нет, станет следующим президентом России. Это иллюзия, что политтехнологи выбрали Путина. Его действительно выбрал Ельцин. Но то, что выбрали именно во многом благодаря указанному критерию, неоспоримо.
То же самое касается и национальных проектов Медведева — они были рождены на кончике пера. Было очевидно, что новый президент должен развернуть деятельность, которая, с одной стороны, будет социально и экономически значима, а с другой стороны будет выведена за функции правительства. Эта деятельность должна была ассоциироваться с президентом. И это было сделано в виде этих нацпроектов.
Мы не участвовали в губернаторских выборах по двум причинам. Нам как людям, работающим на Кремль с эксклюзивным контрактом, было запрещено играть на губернаторском поле. Это был конфликт интересов. Там мы выполняли в основном функцию надзора и мониторинга, очень редко — функцию кризисного менеджмента. Но не вели губернаторские кампании от начала до конца ни разу.
Путин — очень динамичный политик. Он очень сильно трансформировался за эти годы. Наиболее сильная трансформация произошла в момент ареста Ходорковского в 2003 году. Потом был Путин второго срока, Путин президентства Медведева и Путин третьего срока. Это большая тема для разговора. Я могу лишь схематично обозначить. В первый год правления он говорил, что он менеджер, который оказывает услуги населению. Есть сити-менеджеры, а он страна-менеджер. В самом начале своего правления он действительно воспринимал себя именно так. Начиная со второго и третьего года он начал понимать, что его отсутствие в политике не позволит ему решить ни одной задачи. Путин становился все больше и больше политиком. Начиная уже со второго срока он перестал быть участником политического процесса в качестве политика и всё больше становился консенсусным национальным лидером. Это наиболее ярко проявилось в годы правления Медведева, когда ему окружение и все население давало понять, что он и есть первое лицо государство. А ведь это очень сильно формирует человека. Он понял, что Путин и должность президента — это не одно и тоже, что он как политик — больше, чем президент страны. На мой взгляд, его третий срок связан с тем, что политика, как игра, как процесс, как управляемый конфликт, уступила деятельности национального лидера. А это совсем другая деятельность, чем деятельность публичного политика.
Я согласен с обвинениями ФЭП в том, что мы во всем виноваты. Действительно, мы всего добились и за все отвечаем. Если я начну отрицать ситуации, когда мы проигрывали, то мне придется следом отрицать ситуации, когда мы побеждали. А таких ситуаций было несравненно больше, чем поражений. И не считаю нашим «увольнением» ситуацию 2011 года, когда мы не смогли убедить Путина, что второй срок Медведева позволит избежать «Болотной площади». Второй срок Медведева нес понятные дефициты слабости президентской власти, но позволил бы избежать протестов и, самое главное, разрыва власти и элит.
С Болотной и протестами в других городах справились довольно быстро, а вот с разрывом между Путиным и креативным классом ничего сделать не смогли. Произошел прежде всего эстетический, ценностный конфликт. А он исправляется гораздо труднее. Разногласия можно сгладить, купить, запугать. Ценности не являются предметом спора — они просто есть. После «Болотной площади» опора Путина прежних сроков — крупный бизнес и думающая часть населения — стоит на иных позициях. Эти противоречия немного сгладил Крым: в бывшей «Болотной» появился группа лоялистов. Но крымскому консенсусу полностью его преодолеть не удалось. И, наверное, он и не был к этому приспособлен.
Мне ни в нулевые, ни в десятые работать не противно. Я не могу сказать, что когда-то было интереснее или труднее. Работа изменилась, и я изменился. Если бы я в начале 2000-х годов получил сегодняшнюю работу, то мне было бы скучно. Но и я сегодняшний, если бы получил ту работу, то не выпил бы, наверное, столько кофе, сколько пил тогда. Нулевые и десятые в моей карьере очень сбалансированы.
Я живу на три страны. С понедельника по пятницу я работаю в России. А на выходные улетаю к себе в Израиль или Францию. Там иногда периодически приходится работать на выборах. Сервис там не отличается, инструментарий и функции почти не отличаются. Главное отличие в том, что функцию выработки политического предложения для страны выполняет политическая конкуренция, как, например, в США сейчас. Ведь неспециалисту непонятно, почему избирательная кампания в Америке длится полтора года, и все телеканалы с утра до ночи обсуждают только ее. Несмотря на то, что формальным поводом для кампании являются праймериз, но реальным наполнением кампании является формирование политического курса на последующие восемь лет. Именно поэтому кампания такая длинная — необходимо проговорить всё. Это и отличает функции политтехнолога в России от функций в любой западной демократии.
Для участников политической корпорации очень важна чистоплотность. Это очень провокативный бизнес. В нем легко свалиться к использованию простых инструментов: подтасовок, лжи, манипуляций, провокаций. Я не знаю ни одного успешного члена корпорации, который стал бы использовать эти инструменты и остался бы в ней. Это очень важно. Ты сам на себя накладываешь ограничения в инструментарии. Хотя заказчики довольно часто сами хотят, чтобы ты выходил за эти рамки. Но цена, которую ты платишь за его использование, очень высока.
Члену политической корпорации нужно понимать свое место в политическом процессе. В мой первый год работы на Администрацию мы сидели на даче и писали послание Путина Федеральному собранию. Мы были очень воодушевлены тем, что президент произнесет то, что мы напишем, что наши мысли будут донесены до страны с такой высокой трибуны. Один из моих учителей, кто находился тогда рядом с нами, сказал: «Нет, ребята, это не ваше послание. Это его послание. Если вы в этом тексте напортачите, то вас максимум с работы выгонят, а ему позор на весь мир и на всю жизнь». Тогда мы замерли. Это действительно его послание, не потому что он его пишет, а потому что он его подписывает. Эта важная черта для политтехнолога — знать свое место. Политик — это не диктор, который зачитывает текст, а человек, который судьбой и именем берет ответственность за то, что ты для него подготовил.
У Честертона есть герой патер Браун, метод которого сводился к тому, что он рождал убийц внутри себя. В тот момент, когда он понимал, как мыслит и дышит убийца, то он сразу понимал, что это за человек. Член политической корпорации обязательно должен совмещать в себе актера и режиссёра. Если ты хочешь повлиять на пожилую небогатую женщину, живущую на селе, у которой сын служит в армии, то должен знать, как она дышит. Ты должен понимать, какие слова с ней резонируют, какое лицо ей нравится, а какое — нет. Конечно, есть масса инструментов, которые позволяют это понять члену политической корпорации, но это прежде всего искусство. Умение изнутри представить рядового гражданина — это важное умение для члена политической корпорации.
После того, как стал заниматься маркетингом, а потом работать в политике, я еще лет десять читал журналы о лазерной технике. Уход из этой сферы был случайным, но очень формирующим меня. И сегодня я бы уже не удовлетворился бы работой директором по маркетингу в крупной компьютерной фирме, потому что я уже другой. Могу ли я отказаться от того, чем занимаюсь сейчас? Я долго думал об этом. Да, могу. Это не наркотик, с которого нельзя слезть. Я не потеряю себя, если уйду из политической корпорации. Но мне пришлось бы меняться. Начался бы другой, следующий я.
В 1985 году я приехал в Москву поступать в Бауманский институт из Донецка. Как отношусь к произошедшему там? Я до сих пор смогу на велосипеде без рук доехать от моего дома до Донецкого аэропорта. Возле Путиловского моста, где шли ожесточенные бои, находился ДК Калинина, куда меня ребенком водили на елку. В лесу возле аэропорта в поселке Спартак я занялся спортивной стрельбой в тире. Я видел в кадрах свою разрушенную школу. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос.
последних 30
Михаил Виноградов
читать интервью
скрыть интервью
президент фонда «Петербургская политика», 42 года, Москва
Я обычно шучу, что слишком поверхностен для политолога и слишком содержателен для политтехнолога. Действительно, я работаю на стыке этих областей. И думаю, что хорошего определения политических технологий нет. Когда мы говорим о политике есть несколько языков. Есть язык целеполагания — что мы хотим достичь в политике? Его подчас не хватает. Но когда мы пересекаемся с политическими акторами, то ключевой запрос — не «что делать?», а «как делать?» Поэтому политтехнологии — это совокупность приемов и методов, которые отвечают на вопрос «как?» Они могут не касаться вопросов целеполагания, но это может быть проблемой при выборе соответствующих технологий.
По образованию я историк. Историческое образование было выбрано отчасти случайно, и произошло в силу той актуализации истории, которую она имела в конце 1980-х годов. Переосмысление истории, открытие новых фактов казались интереснее математических формул. Думаю, выбор профессии оказался удачным. История приучает работать с большими объемами информации, разными интерпретациями, по иному оценивать настоящее. Но во время слома 1991 года стало очевидно, что история не то, что происходило когда-то, а то что происходит здесь и сейчас.
Со второго курса я начал работать в сфере политической аналитики, которая тогда нарождалась. Тогда было интересно работать, был сильный драйв. Потом были разные периоды, когда-то я был ближе к информационным технологиям, когда-то — к экономике. Предметно со сферой политических технологий я стал пересекаться уже ближе к концу 1990-х годов. Но это были какие-то разовые акции. Но мне тогда стало ясно, что участие в выработке политических решений — это тоже форма анализа. Когда ты просто эксперт, то даешь некие «ботанические» комментарии. Но когда ты задействован в непосредственном процессе реализации собственных рекомендаций, то понимаешь происходящее по-иному и нередко глубже. Но здесь было важно не превратиться в политика. Я к этому никогда не стремился. Это другой драйв и другой опыт.
Помню, однажды на выборах удалось уговорить действующего депутата Госдумы от «Единства» выступить на телевидении под фамилией другого депутата. Было невозможно поменять титры — да и кто их различает? Тем более что это было до появления массового интернета. В конце концов выступление не понадобилось, но такой опыт дорогого стоит. Был и другой более важный случай. В одном из сибирских городов шла предвыборная кампания. У нашего штаба водителями были жители вполне брутальные мужчины, нередко с сроками за плечами, своими спортзалами и микро-бизнесами. В конце кампании один из них подошёл к нам и сказал: «Вот смотрю я на вас и думаю, а правильно ли я жил раньше?» Его поразил командный драйв, радость от работы, отсутствие разрыва во времени между замыслом и его воплощением в жизнь в нашей профессии. Это действительно заражает. Не случайно у многих политтехнологов после кампаний начинается ломка, которую они лечат разными способами: от путешествий до алкоголя. Потому что некуда бежать, время резко замедляется. А любое ускорение времени в истории и жизни — это наркотик, от которого трудно отказаться.
В 1990-е годы в сфере политических технологий я почти не работал. Но были интересные опыты. Летом 1996 года я оказался в Ярославле, где увидел военные грузовики, из которых разгружаются солдаты. Они переодевались в футболки штаба Ельцина, шли по городу раздавать листовки, ну и знакомиться с девушками заодно, был выходной день. Этот момент мне очень запомнился.
Кампания 1996 года дала большой импульс отрасли политических технологий. Но дело не только в этом. В 1980-е годы была популярна профессия журналиста. В неё шли люди из самых различных сфер, с самым разным бэкграундом. В 1990-е годы именно профессия политтехнолога или пиарщика стала привлекать людей, уже состоявшихся в гуманитарной сфере — психологов, историков, социологов, политологов, философов. И люди, которые шли тогда в политические технологии были сливками гуманитарной сферы. К середине 2000-х годов это стало рутиной с кафедрами связей с общественностью. Социальный статус политтехнолога и пиарщика снизился. В 1990-е годы общество преувеличивало их значимость. Сейчас же они теряются. Не случайно, что в дискуссиях о фильме «Левиафан» часто всплывает образ девушки из окружения градоначальника. Одни говорят, что она из правоохранительной сферы, а другие, что она его пиарщик. Такое размывание происходит с любой профессией. Но именно 1996 год оказался пиком политических технологий.
В начале 2000-х, когда я больше занимался экспертной деятельностью, мне поступил любопытный запрос. Нужно было написать аппаратную записку для «Единой России», причем мне намекнули, что писать её нужно достаточно просто, чтобы понял один из руководителей партии, и достаточно умно, чтобы зауважал другой. Это был любопытный вызов. Ещё нам нужно было однажды зарегистрировать в качестве СМИ название «Обзор текущей политической ситуации в России». Но к этому времени уже ограничили использование слова «Россия» в названии разных продуктов. Поэтому пришлось дополнительно написать обоснование использования слова «Россия» в обзоре текущей политической ситуации в России. Ну страницы на три я это написал. Потом мне рассказали, что в кабинетах на эту записку смотрели очень уважительно, они не знали, что это абсурдное в общем-то требование может быть выполнено столь тщательно. В этот период постепенно приходит понимание, что форма в этой сфере не менее важна, чем содержание. Впрочем, не уверен, что со мной здесь согласятся все коллеги по экспертному цеху.
Сейчас изменились два принципиальных момента. Во-первых, у политтехнологов пропало ощущение, что реальность можно быстро поменять. Во время одного проекта в Украине нам не хватало сильно аналитика, и мы привезли его из Москвы. Он смотрел заседание Рады, на котором отказались утверждать кандидатуру премьера. Аналитик спросил: «А почему они не договорились раньше?» Объяснять ему, что заседания парламента для того и существуют, чтобы договориться или не договориться, не имело смысла, потому что он формировался уже в иной среде. Отсутствие таких навыков полностью деклассифицировало российских политтехнологов в других странах.
Во-вторых, пришли политтехнологи из регионов. Среди них есть идеологи, креаторы и полевики, но больше последних. Обычно им приходится очень много ездить по отдалённым населенным пунктам, общаться непосредственно с избирателями. Они стали заниматься субподрядами или искать собственные проекты. У них в свою очередь возникла иллюзия, что они занимаются реальной кампанией, а в центральном штабе слишком много «зауми». Поэтому кампании стали гораздо более прямолинейными, брутальными и менее креативными. Из них исчезло особое настроение, за которое заказчик был готов платить большие деньги.
Но в нулевые часто бывало и иначе. Например, на «Справедливую Россию» работали политтехнологи, имеющие искреннюю политическую позицию. Приезжая в регион, они портили своим кандидатам отношения с местной властью. Кандидаты часто просто делали свою личную медийную кампанию в регионе. А политтехнологи начинали делать идеологическую, поэтому начинали «мочить» власть, вкладывая в это душу.
У меня есть несколько личных примеров, когда приходилось делать фейковый продукт от имени конкурента. И знаете, когда это делается с душой, мне в итоге не доставалось ни одного экземпляра. Эти газеты разлетелись по городу за считанные часы. Но в кампаниях полевиков такое стало уходить. Потерялся азарт и ощущение игры. На одних региональных выборах у моего кандидата был технический кандидат, который за всю кампанию даже ни разу не появился в области. И вот за три дня до выборов приходит его очередь дебатировать с нашим конкурентом, рейтинг которого неожиданно пошел в гору. Он был уверен, что будет на дебатах один, сможет подробно объяснить свою позицию. Но он пришел, а в студии сидит какой-то непонятный человек, которого никто до этого не видел. Он был в шоке: его сценарий стал срываться. Он начал с этим спорить, но в итоге вообще покинул студию. Ах, если бы я знал, что у нашего технического кандидата появится полчаса свободного эфирного времени, то хотя бы подготовил ему текст.
Рейтинг выживаемости губернаторов, как и другие подобные проекты, мы делали, прежде всего, для себя. Например, сейчас мы делаем рейтинг отношений России с разными странами мира, что в реальности лежит за отношениями с Ираном или Индией. Обнародование уже работает на личное паблисити. Но уже через месяц после публикации первого подобного рейтинга у нас стали интересоваться, когда же следующий подобный продукт?
Разгадка популярности рейтингов в том, что региональная политика России почти отсутствует в повестке дня. А ведь подчас в регионах всё не менее, а иногда и интереснее, чем в центре. Рейтинги разрушили московоцентричную картину мира. Недавно Симон Кардонский писал, что в Челябинской области популярна литература, как Гейропа захватила Россию, а мужественные челябинцы ей сопротивляются. Люди же просто в своей окружающей реальности пытаются таким образом искать смысл. Нам удалось повысить узнаваемость регионов, интерес к событиям, там происходящим. Гораздо большее количество журналистов стало отличать Омск от Томска и Иркутск от Якутска. Это видели в самих регионах. Они поняли, что их мониторят и ничего за это не просят. Естественно, в рейтингах выживаемости губернаторов мы пытались угадать настроения на верху. И через некоторое время мы узнали, что цитаты из них включают в официальные документы. У наших проектов появилась таким образом благодарная аудитория. Это стало залогом успеха проекта.
Политтехнологи наверняка сыграли в каких-то моментах постсоветской истории ключевую роль, но они об этом не знают. В фильме "Мёртвый сезон" есть такой эпизод: разведчик выходит из самолета, и к нему несутся на встречу люди с цветами. А потом выясняется, что это встречают спортивную команду, следующую позади него. Такая ситуация нормальна для любого политтехнолога, который не хочет стать политиком.
Не очень понятно, почему деятельность политтехнологов могла бы лицензироваться. Образования ни у кого нет. Если вы у меня спросите, что делать с проектом «Последние 30», то я, делясь своим советом, тут же начну осуществлять нелицензируюмую консультационную деятельность. Во втором эшелоне на рынке политтехнологий очень много случайных людей, которые и не назовут их своей основной деятельностью. Нужно ли им проходить обязательное лицензирование?
Нужно различать цинизм в поступках и в помыслах. Цинизм при оценке ситуации — нормальное качество для политтехнолога. Что касается цинизма в личных поступках, то тут нужно смотреть по ситуации. Кстати, нужно понимать, что среди политтехнологов довольно ровные взаимные отношения — это не мир фотомоделей. Все между собой общаются, просят и дают совета, берут субподряды. Думаю, количество интриг в отрасли довольно низкий.
Политтехнолог поступки не совершает, их совершает политик. Он может взять на себя ответственность только за предложение. Профессия политтехнолога и политического эксперта не так интересна, как ее показывают. Но иногда и в ней возникают те самые искры, из-за которых в неё идут. Но в целом это такое же ремесло, в котором приходится заниматься помногу не тем, чем хочется. И в этой ситуации не всегда есть место цинизму.
На выборах в Думу в этом году есть интрига. Тут парадоксальная ситуация. На парламентских выборах в нулевые, казалось бы, не было никакой интриги, но каждый раз после них политический курс существенно менялся. Да, это делалось часто без запроса избирателя, но делалось всегда. Менялись соотношения в правящей коалиции, делились сферы влияния. Есть интрига вокруг самой избирательной кампании и вокруг интерпретации её итогов. Я думаю, сейчас наверху есть желание, чтобы было весело.
В 1985 году я ходил в школу в 4 класс и слушал иностранные радиостанции. В апреле того года я случайно поймал албанское радио и с интересом слушал церемонию некролог Энвера Ходжи, очень похожий на многочисленные к тому времени сообщения о кончине советских вождей.